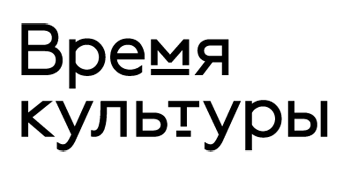«Онажды утром, когда шел изумительный снег, мне нужно было сообщить кое-что одному человеку, и я отправил ему письмо, в котором, однако, ничего не написал о снегопаде. «Можно ль понять, – ответил он мне, – чего хочет человек, который до такой степени лишен вкуса, что ни словом не обмолвился о снегопаде? Сердце ваше еще и еще раз достойно сожаления».

Это фрагмент из «Записок от скуки» японского монаха Кэнко-Хоси. Мы собрались в декабре 2013, и за окном снегопад. А в 1913 году Матюшин и Крученых создали «Победу над Солнцем», состоялась одна из премьер «Лунного Пьеро» Шенберга, увидели свет «Композиция VI» и «Композиция VII» Кандинского, «Пир королей» Филонова, «Колесо от велосипеда» Дюшана.
«Насколько мы вообще достойны всего этого, что было 100 лет назад?», – начал Владимир Мартынов.
Он проводил двухдневный семинар в воронежской академии искусств. Одни знают Мартынова как автора саундтрека к «Острову» Лунгина, другие давно уже следят за философом и композитором, который возвестил конец эпохи композиторов. Найдутся и те, кто считает его безумцем и провокатором.
«Композитор – фигура лишняя, болезненное явление»
Не имеет никакого смысла просто сообщить о его визите и подробно пересказывать биографию, в равной степени непросто взять и осмыслить все им написанное – как нотами, так и словами, – уложив это в единую и простую мысль. Хотя, по словам Мартынова, его витиеватый творческий путь только внешне кажется метаниями. Сам же он видит четкий вектор, делая скидку разве что на время, в которое он жил и живет. Бурные семидесятые – рок-революция, психоделия, увлечение востоком (и тут сразу же вырастают такие фигуры, как Махарадж, Рамакришна, Бидия Дандарон) – Мартынов, как и многие его современники, не мог миновать всего этого. Главным все же стал религиозный стержень: сперва буддизм, потом православие – он называет отца Тавриона, отца Амвросия – и тогда все, по словам Мартынова, «встало на место».
Почти пять лет он занимался расшифровкой богослужебных песнопений и полагал, что к сочинительству не вернется. Но вернулся – как сам отмечает (монтажно выкинув еще несколько лет), этому посодействовали Норберт Кухинке и Альфред Шнитке. Первый задумал парацерковное произведение, которое должно исполняться немецкими и русскими хорами (впоследствии – знаменитый «Апокалипсис»), и обратился с этим к Шнитке, а тот ответил, что создать подобное сможет только Мартынов, если согласится. Согласился. Реагируя на изменения во времени и стране, менялся и он сам, вернувшись к концертно-композиторской деятельности. Не столько его метания, сколько попытка полноценно отвечать на запросы и капризы времени – обстоятельства, в стороне от которых Мартынов не мог находиться. Нет никакого его «Я», есть сумма фактов, результатом которых он является.
Самый, наверное, часто задаваемый ему вопрос – о буквальном конце эпохи композиторов, – Мартынов назвал в некотором роде частным. Композиторы покамест не исчезнут и будут и дальше писать музыку. Просто сегодня они уже не могут отвечать на цивилизационные вызовы. Мы живем в то время, когда нам грандиозно повезло или не повезло, но наиболее фундаментальный антропологический кризис со времен неолитической революции – он уже есть, он сейчас. По большому счету, это конец эпохи и философов, и литераторов, и живописцев, хотя формально они никуда не делись. «Закончилась эпоха, в которой слово определяло все – мы возвращаемся к бессловесному и надсловесному, но не в пещеру, а на новый уровень».
«Логико-философский трактат» Витгенштайна оканчивается положением «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Мартынову не интересно то, о чем можно говорить. Ему интересно то, о чем следует молчать. И потому состояние сознания, в котором мы пребываем, он считает тупиком эволюции. Сложно сказать, в каком из ближайших поколений мы переступим наконец эту черту. Не исключено, что люди, способные на такой шаг, есть уже сейчас. Их сложно определить, мы можем не видеть восходящих потоков, в деятельности, например, какого-нибудь ди-джея, но этот процесс станет очевиден только со временем.
Вопрос принятия или непринятия позиций и убеждений Мартынова сложно задавать себе только тем, чье сознание (увы) глубоко укоренено в культурном пространстве. Таковое сознание уже сформировало для себя систему координат, в которой распознавание «свой-чужой», возможно, работает даже слишком агрессивно. И суждению может помочь разве что попытка разобраться в мотивах человека, который, по сути, отрицает значимость своего ремесла. Для начала надо включить режим «open mind» и хотя бы на пару часов принять на веру все, что он говорит, вырубив на это время критическое мышление. Чтоб увидеть, как привычные вещи становятся на непривычные для нас места, создавая при этом совершенно иную гармонию и обретая новые смыслы. И после уже решать, сняли мы тем самым розовые очки или, наоборот, надели.
А кризис, о котором пугающе неприятно слушать Мартынова, начался еще во второй половине XIX века, когда Ницше уже ощущал смерть Бога. «Кризис – объективен, мы ни в чем не виноваты. Он устроен не людьми, но при помощи людей». Любой организм, будь то человек, цивилизация или культура, стареет, загнивает, это естественный процесс. О чем говорил и Шпенглер. И сегодняшнее наличие в мире Западной Европы и европейцев не является гарантом, что там нет глубокой ночи. Кризис этот фундаментальный. Это не значит, что он опасен или что мы допустили ошибку, он просто уже за пределами наших осмысленных возможностей на него влиять.
Вот так вот. Хочется перевести разговор в более приземленную сферу, хватаясь за спасительную соломинку, задать вопрос о ценности новизны в современной музыке и о том, что будет ценностью в будущем. И ответ: «Ценность – самое поганое слово, которое сегодня можно было бы придумать. Ницше писал о переоценке ценностей. Надо забыть о том, что есть само понятие ценности. Все настоящее бесценно. Когда мы говорим о ценности, мы сразу переводим разговор в иную плоскость».
Нам это, понятное дело, трудно уразуметь, не будем лукавить. Ведь Моцарт – ценность, а Тухманов – ну, уже не очень. То есть Тухманов, конечно, тоже хороший композитор, но Моцарт-то… В таком ключе работает наше сознание. А ведь даже в этом простом вопросе иерархические нотки неуместны. И из-за того, что мы мыслим категориями ценностей, мы создаем эту порочную систему, еще и полагая все отклонения от нормы анархией. И даже когда религиозный человек возвещает, что самая главная ценность – это Бог, то тут уже возникают вопросы о состоянии ума такого человека. Освободившись от этого мышления, мы сможем что-то вернее понимать. А не строить парадигмы в духе «великолепный Моцарт сегодня кажется уже приевшимся, а «старый новый» Сальери – нет». И вот когда все эти вербальные и идеологические критерии мы отринем, настанет новый палеолит.
Владимир Мартынов говорит об этом без особой страсти, но и далеко не буднично. Даже оказавшись задетым тем или иным вопросом, он хоть и позволяет себе легкие эмоциональные вспышки, но продолжает не проповедовать или критиковать, а скорее констатировать. «Почему композитора в том его виде, который мы привыкли подразумевать, нет в любых великих культурах прошлого и настоящего, кроме западноевропейской? Композитор – фигура лишняя, болезненное явление, он появляется там, где ослабляется, истощается вера».
И, похоже, так возникает невроз мировой души – пустота, которую композиторство и призвано заместить. И как итог: сегодня любую музыкальную структуру мы воспринимаем и используем исключительно эстетически, не думая о том, что делаем и зачем, покуда получаем удовольствие.
На пути к зрительским местам
В своем лекционном материале Мартынов называет периоды развития музыки – магический, мистический, этический и эстетический. О них уместно сказать отдельно, поскольку это, вероятно, скорейший способ вывести обличающие речи в адрес композиторов из области оценок и эмоций.
Магический – шаманский экстаз, жест неотделим от мелодики, работает совокупность средств: от нечленораздельного мычания до ритуально-наркотического опьянения. Архаические практики вроде погребальных плачей даже сегодня звучат так жутко, что рядом невозможно находиться. И Орфей, отправляющийся в ад, – настоящий шаман! А Монтеверди и Глюк писали так, что арии Орфея гармонически получились очень красивы. Но никаким красивым пением ад не ублажишь, хотя сами эти оперы Мартынов считает замечательными. Они просто не правдивы.
Мистический – озарение на смену грубому экстазу, шамана сменяет жрец, который никаким камланием заниматься уже не будет. Теперь – медитативные практики. Мартынов задал аудитории вопрос о символике семиступенчатого звукоряда, а в ответ получил тоже вопрос – про увеличенную кварту. Разговор все же сводится к мистическим символам: во всех культурных традициях каждый звук соотносился с определенной планетой, минералом, частью тела или космической универсалией. И сегодняшние «беспорядки в цивилизации», по мнению Мартынова, связаны с тем, что мы безответственно нажимаем ноты, не зная, кого дергаем за усы.
Этический – приходит философ. Музыка – не просто орудие озарения, она призвана воспитывать совершенного гражданина. Ничего принципиально нового не появляется, но создается теория музыки. Человек, который, по сути, не практикует, указывает, как надо практиковать. Предтеча критики: любой будет трепетать или злиться, исправляться или наслаждаться, услышав оценку того, кто сам не способен связать двух нот, но оставляет своей деятельностью не меньший след, чем исполнитель. Теория и практика начинают бесконечную гонку, но самое важное то, что на этом поле появился новый игрок.
Эстетический – музыка становится искусством. И вот пришедшим на лекцию пора уже задаться вопросом, можно ли шаманизм и путь к мистическому озарению назвать искусством?.. Но, так или иначе, на первый план выходит эстетическое наслаждение безотносительно к способам его достижения. Мне нравится – значит, я прав. На сцене артист – немного и шаман, и жрец, и философ, и, может даже, зовут его Джим Моррисон. Артистизм не связан никакими нормами, потому что он решает задачу наслаждения, выражая свою эмоцию сочетанием звуков. А первым артистом, причем даже талантливым, можно назвать Нерона. Владелец эстетической истины позволяет себе вседозволенность, допуская, что эстетика выше этики.
Безусловно, все много сложнее, есть немало отклонений и исключений, особенно если кивать в сторону, например, японцев. Но трудно закрыть глаза на фольклорные бумы с приездом якутских и забайкальских шаманов, превращающиеся в концертные номера. И на фестивали-солянки, когда между «Мазуркой» и Брамсом камлает шаман. Мидас превращал все в золото, так же и мы все окружающее превращаем в продукт потребления или в произведение искусства.
Мартынов рассказывает примечательный случай из своей практики фольклориста. Зимой заставлял брянских крестьянок петь весенние заклички. В этом и заключается профессионализм фольклориста – записать едва не весь календарь за неделю, чтоб потом уехать с чувством выполненного долга. Разрушив целостное состояние. А сила фольклора в том, что музыкальной структуры не существует без структуры жизненной. И заклички эти, в принципе, исполняют не для того, чтоб их кто-то услышал. Фольклор кончается там, где появляются зрительские места.
С пустым стаканом в океане минимализма
Симптомы девальвации роли композитора особенно остро проявились в творчестве представителей Новой венской школы – Шенберга, Веберна, Адорно и других. Короткие, подобно японским хокку, зарисовки на 20 секунд. Симфония могла уложиться в 8 минут. Афористичная краткость выводилась настолько концентрированно, что зритель не успевал начать слушать, как все уже кончалось. Адорно объяснял это тем, что энергетические ресурсы, прежде позволявшие создавать монументальные произведения, утрачены.
После Второй мировой войны на гребень волны второго авангарда вскарабкались Штокхаузен и Кейдж. Первый позиционировал и ощущал себя композитором, но при этом разрушал сам принцип композиции, посягая на партитуру. Взять, к примеру, «Меры времени» – произведение для квинтета духовых деревянных инструментов. Партитура выглядит вроде бы честной, но есть подвох – ни общего темпа, ни общего метра, разрушена вертикальная координация. И такое произведение просто не может быть дважды исполнено одинаково. В «Моментах» ломается уже горизонтальная координация, партитура разбита на фрагменты, которые могут исполняться в произвольном порядке. А ведь композитор должен гарантировать горизонталь и вертикаль, в этом его задача. Таким образом Штокхаузен снимает с себя часть ответственности за результат, отказывается от ряда обязательных догм из-за отклонений.
Еще более радикальный шаг сделал Кейдж, создав «Невидимый ландшафт». Для 12 радиоприемников. Написаны ноты, каждая из которых соответствует определенной радиочастоте. И исполнитель должен крутить ручки приемников, получая на выходе совершенно непредсказуемый результат – на каждой частоте свои передачи и эфиры, привязанные еще и ко времени, к расписанию. И уже невозможно даже предугадать, каким случится этот троянский конь.
В 60-е появляются минималисты – сперва Терри Райли, за ним Стивены Райх и Гласс, одним из первых у нас, в СССР, был как раз Мартынов. Разумеется, об этой теме он может рассказывать много и с упоением. Но нельзя не выделить, возможно, ключевую сентенцию: Мартынов считает минимализм не столько направлением, сколько естественным состоянием музыки – архаической, шаманской, медитативной, да даже современной. И композиторскую музыку он называет лишь маленьким островком в мировом океане минимализма.
Мартынов говорит, что никогда бы не пришел к минимализму, не получи он «опыт вскрытия самых древних пластов». Речь об уже помянутой фольклорной работе в Брянской, Орловской, Смоленской областях, на Памире и в Закавказье, а позже уже и в Якутии. И западноевропейская композиторская музыка после этого показалась ему искусственной, он даже мимоходом уронил слово «ложь», тут же, впрочем, восстановив статус-кво признанных гениев. Но в этом монологе он искал иную мысль – про свободный поток музыки, в котором композиторы пытаются себе все подчинить, возводя ирригационные сооружения, мосты и запруды. Порой величественные и красивые, но в любом случае убивающие сам поток.
Музыка минимализма подобна движению часовой стрелки. Используется репетитивная техника, когда избранный фрагмент повторяется множество раз, постепенно развиваясь за счет микро-изменений. И в какой-то момент мы начинаем слышать, что все-таки пришли к чему-то новому, отличному от того, что было в начале. Во всей этой истории важную роль играет восприятие слушателя, его реакция. Интерес, сменяемый пассивной скукой, затем уже активной – и перерастающей в раздражение. Кто-то может и не выдержать. Во время одного из исполнений мартыновского произведения «Come In!» из зала крикнули: «Go out!»
Но другие слушатели остаются, слушают – и, Мартынов убежден, с ними что-то происходит! Возможно, тот самый катарсис. Это разговор не о качестве произведения, а о принципе воздействия. По подобной схеме выступает и Мартынов-лектор. Даже меняя темы, он словно возвращается к одним и тем же мелодиям, повторяя уже озвученные тезисы. Конечно же, получая пусть и в сдержанной форме (все-таки мы на семинаре), но нередко весьма колкие вопросы-замечания. Например, о том, как вообще можно называть музыкой то, что в и без того жестоком и мрачном мире способно вызвать в нас лишь раздражение.
Мартынов, тем временем, вновь приходит к потребительскому отношению, к ценности, но новый паттерн посвящен уже слушателю, сибариту-нахлебнику, который постоянно хочет смены пластинки, постоянно ждет в музыке что-то новое, что-то трогательное или веселое, требует развития, развлечения, наслаждения. И лишаясь этой пищи при столкновении с минимализмом, слушатель чувствует себя обманутым, его стакан пуст – и никто не спешит наливать.
Сбросить Кейджа, Малевича и Дюжана с парохода современности
Пьеса «4’33»» Джона Кейджа. 4 минуты 33 секунды, 273 секунды, ноль по Кельвину. Инструменты, фрак, полноценный концертный антураж. Только не звучит то, что должно, по мнению слушателя, звучать. Мартынов как бы вскользь называет Кейджа великим человеком. Музыка – это не только то, что вы слышите в наушниках, по радио или на концерте. Музыка – это объективная совокупность звуков. Ноктюрн Шопена своим великолепием может вырастить слушателя-иждивенца, который не способен понять, что такое слушание процесса своего слушания. Который не способен хотя бы задуматься на эту тему.
Если «4’33»» – абсолютный ноль, то «Черный квадрат» Малевича – Большой взрыв, черная дыра, которая засасывает все. Вслед за «Черным квадратом» в живописи уже не может быть ничего.
Марсель Дюшан поставил писсуар на пьедестал и прицепил к нему подпись «Фонтан». Один из первых и уж точно самый известный пример реди-мейда. Интуиция Дюшана позволила ему предсказать, что любой художник станет еще активнее пользоваться уже готовыми материалами. Если раньше это были холсты и краски, то теперь – шаблоны компьютерного инструментария.
Вопросы, которые ставятся этими тремя «вещами» (Мартынов вообще очень привязан к этому слову, возможно, намеренно избегая ярлыка «произведение искусства»), гораздо более глубокие и фундаментальные – по сравнению с великими картинами и симфониями. И он вновь возвращает нас к кризису, в котором мы – тупиковая ветвь, отработанный материал. И Малевич, и Дюшан, и Кейдж – они говорят о том, что нам надо сделать следующий шаг. Но они тоже принадлежат к нашему виду и не могут выдержать той суммы требований, которые предъявили. Потому они продолжали создавать более привычные и традиционные… «вещи».
Владимир Мартынов говорит, что надо воспринимать и «Фонтан», и «Черный квадрат», и «4’33»» как маяки, сигналы, посланные со следующей эволюционной ступени, на которой «4’33»» должна звучать не 273 секунды, а все время. Да и сама логика модернизма говорит о том, что священных коров пора бы сбросить с парохода современности, как и Пушкина, Достоевского и Толстого, согласно манифесту футуристов. А не выставлять в музеях и исполнять в концертных залах, вешая умопомрачительные ценники и истошно крича о «шедеврах современного искусства». Чтоб отринуть старое, надо придумать что-то принципиально новое. Перестать продлевать конец, а отыскать начало.
P.S. Отвечая на вопросы о современных художниках, Владимир Мартынов старательно ушел от градаций степени величия тех или иных творцов. Это к разговору о ценности. А парировал все по сути одни ударом – Кейдж закричал тишиной своего «4’33’» уже больше полувека назад. Можно сколько угодно создавать даже великолепные перфомансы и спектакли (не забыл он и Марину Абрамович), но все это не может далеко уйти от Малевича и Дюшана (да даже от Бодлера с Флобером!), пока сохраняется в поле искусства и зовется произведением. В общем, всякий творец – враг творчества. Вот так.
Александр Вихров
Фото Ольга Табацкая