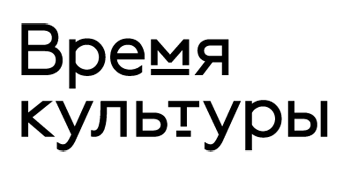Генерал Экстаз распространяется в виде волны. Об этом можно было узнать от одного из посетителей лекции, которую редактор ХЖ Мария Чехонадских прочитала в воронежском центре современного искусства. Гость лекции (воронежский музыкант) горячо убеждал публику в том, что истинное произведение искусство узнается по волне экстаза. А подлинный художник – по внеземной мотивации своего творчества.

Меня поразило тогда, как сложнейшего обитателя человеческого мира – искусство – можно свести к одному мощному аффекту. И этот аффект, когда остальные критерии искусства становятся в конец запутанными, остается единственно неподдельным.
Чем же этот аффект отличается от вызванного скоростью? Если экстатическое религиозное видение можно вызвать стимуляцией определенной зоны головного мозга – как отличить его от подлинного видения?
О своем недоумении я вновь вспомнил во время Платоновского фестиваля. В филармонии я наблюдал то же, что и в другое время в других залах – бесконечные аплодисменты, атмосферу готовности к неземной радости и просветляющей встрече с прекрасным. Это несмотря на неоднозначный выбор пьес, сложность воссоздания их культурного контекста, стандартную профессиональность исполнения и т.д.
Я сам последний раз последний аффект переживал пару лет назад, в концертном зале имени Чайковского, на гала-концерте фестиваля культуры финно-угорских народностей. Эта бесконечная эпическая пытка счастьем просто требовала отбросить последние рубежи рефлексии и погрузится в магический вихрь, распирающий филармонию. А еще подобное отношение к образцам культуры очень характерно для юношеских периодов становления личности.
Эти детали явно указывают, что мы здесь сталкиваемся с чем-то весьма архаичным.
Архаичным – по сравнению с чем? С тем, как функционируют единицы искусства современного. Они скромнее, что ли. Молчаливее. Прозрачнее. Аффект и экстаз для них – вещи постыдные, как открытая манипуляция.
Подробнее позже, пока – точка для сравнения.

Почему архаика? Это, вроде, неудивительно. Многие мудрецы писали о произрастании искусства из монолитных магических блоков жизненного пространства. Собственно искусством само по себе оно стало в результате процесса, вшитого в развитие западного мира. Переломная точка – Возрождение. А дальше по нарастающей – стадии последовательных дифференциаций зануднейше разбираются в медийно-системной теории Лумана-Леманна.
Впрочем, другой мудрец, Адорно убедительно доказывает, что хоть искусство и расколдовалось, но в нашем чистом мире оно единственно еще и хранит осколки магии, само магией не являясь. Негативная диалектика.
Однако искать в экстазе от искусства именно магические, ритуальные аффекты – чересчур абстрактно. Все может корениться в истории гораздо более близкой. В веке, когда появились гении и шедевры – веке романтического искусства.
То есть совсем недавно, пару веков назад, а никак не десять тысячелетий.
Эстетика этой эпохи оставила нам в наследство описание чувства «возвышенного». Именно возвышенное очень часто называется предметом искусства, переживаемого через катарсис (в современном, не античном понимании), аффект. Очень часто, говоря об искусстве современном, говорят, что оно последовательно отказалось и от темы прекрасного, и от темы возвышенного. Это уже место уже настолько общее, что сразу вызывает сомнения. Возвышенное, по Канту, особого отношения к эстетике и не имело. Чувство возвышенного – это столкновение человеческого разума с собственной природой. Через переживание «непереживаемого» опыта, к примеру – бесконечности. Искусство здесь затрагивается боком. А вот полностью искусство, по Канту, участвует в переживании прекрасного – которое происходит от особой организации пространства и времени. И если опыт возвышенного порождает все свойственные романтическим персонажам метания и трагедии духа, то опыт прекрасного – вотчина немотивированного пользой, отрешенного взгляда, находящим в прекрасном бессмысленное удовольствие.

Но это философия, претендующая только на саму себя. Если же взять исторический контекст немецких идеалистов – становление национальных европейских империй и соответственно поиск обоснований для их легитимности – то к переживанию аффекта возвышенного мы добавим еще один контекст: иерархию. Суверенитет национального государства – вещь совершенно метафизическая, призванная объединить на абстрактной основе многие социальные группы и слои. Для этого объединения нужно было что-то, однозначно превосходящее их всех: суверен. И некий новый клей, который бы заменил религию в деле склеивания воедино всего общество. Отсюда гегелевский проект «народной религии» – сплава искусства и философии, некой новой мифологии, связывающей власть, интеллектуалов и пейзан. (Крайне удивительно, если бы из всего этого не выросло нацизма).
Итого: что же происходит, когда я плачу от невыносимого счастья на концерте в филармонии?
Первое: подразумевается, что я получаю невероятный опыт возвышенного и духовного, которого в повседневной жизни нет. Мой человеческий субъект дезинтегрируется и снова собирается, обновленный и улучшенный. Далее, я захвачен величием, уникальностью, чудесностью Гения и его шедевра. Под конец, я признаю некий особый режим человеческого – вне исторических времен и условий, вечный и горний. Я падаю на колени перед властью суверена Искусство, поверженный войсками его генерала Экстаза.
Смесь удивительная – как и все, имеющее исторический характер.
Современное искусство, естественно, не с луны упало. Оно имеет ту же родословную – но как будто взяло другие гены от общих родителей. С некоторым лукавством, не без этого.
Прекрасного не делаем (ну-ну), однако незаинтересованный удовольствием взгляд – базовая операция познания. Аффект возвышенного не в деле – но рефлексия человеческой субъективности вменена жестко. Материя откровенно слаба – не пытается покорять, чувствовать, возвышаться. Говорит только за себя. Не объединяет, а разобщает, разбивает реальность на созвездие сингулярностей. При всем при этом – современно искусство тотально канонично. Всю парадоксальную слабость нового искусства дотошно описал Адорно. Но даже его химерические парадоксы – слишком большое ожидание, ноша для современного искусства.
Здесь можно было бы вспомнить апологии концу истории, смертям авторов и т.д. – как оправданию этой отрешенной немощи. Но это, во-первых, очень пошло, а во-вторых, не соответствует действительности. История очень даже бурлит дальше, и современное искусство – один из её языков.
Звезда (астрономическое тело) искусства изрядно остыло после вспышек нового времени. И только в слабом свете неяркой звезды стало возможным появление новых форм жизни. Современное искусство – это одно из многих новых племен, которые населили человеческий мир, в котором мы больше не одни. И прежде, чем вываливать на это свежее царство свои требования, ожидания, запросы и жажду возвышенных экстазов – стоит просто посмотреть, как новые звери пасутся, пьют, строят гнезда и размножаются.
Илья Долгов