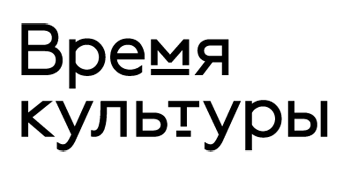Воронеже Познер признался: «Германию я ненавидел, ведь это была страна оккупантов. Когда мы с родителями там жили, я каждый день ожидал, когда мы уедем. И пообещал себе: больше туда ни ногой. Но по иронии судьбы моя дочка вышла замуж за немца, сейчас в Германии подрастают мои внуки»…
Именно за этой, на первый взгляд, абсолютно проходной фразой – разгадка феномена Владимира Владимировича Познера, едва ли не самого успешного нашего журналиста, воспринимающегося значительной частью общества – совестью сегодняшней России (и это притом, что совесть и успех в нашей стране – понятия пока диаметрально противоположные). Дело здесь не только в психологической формуле, ставшей основой авторского стиля: ненавидел, но по иронии судьбы пришлось полюбить. Дело в искренности чувств.
«Германию я ненавидел» – это даже семантически почти рядом с «Убей немца!» Ильи Эренбурга. Собственно, если присмотреться внимательнее, можно заметить, что и сам Владимир Познер является очень удачной реинкарнацией единственного публициста сталинской эпохи, которому хозяин страны позволял почти все.
Магия слова и жажда реальности
Эренбург принес в нашу культуру ясную и четкую мысль: состояться в профессии журналиста в этой стране можно либо за счет колоссальной любви к персонажам своих публикаций, либо за счет такой же колоссальной, всепоглощающей как любовь, ненависти. Ненависть эта у Эренбурга была живой и настоящей, что до сих пор делает лучшие образцы его публицистики востребованными.
Ненависть Познера деликатнее. Она мягкая, обволакивающая, сюжетно встроенная в уютный тон разговора. Вроде это и не ненависть даже, а лишь неловкая случайная оговорка. «Я позволил себе назвать Государственную Думу «государственной дурой», – рассказывал Познер студентам Воронежского госуниверситета. – Ну, как оговорка… Кстати, после нее председатель московской городской Думы жаловался мне, что их орган теперь называют «московской городской дурочкой».
Но и мягкая ироничная неприязнь Познера, и жесткая испепеляющая ненависть Эренбурга – имеют общее духовное родство. Они обе направлены против казарменного идеализма, против гремучей смеси фельдфебельства с романтизмом. Сложилось так, что эта смесь традиционно бродит именно в немецкой культуре, не случайно идея казарменного идеализма поглотила однажды все немецкое общественное устройство. Для Эренбурга это было очевидно, поскольку шла война. Но вот то, что это актуально и для Познера – выглядит откровением.
Можно представить, что начинает испытывать человек с почти врожденной германофобией, у которого сначала дочь выходит замуж за немца, после чего к власти в его стране приходит политик, профессиональное становление и гражданское взросление которого случилось именно в Германии. После такого эмоционального стресса остается разве что уйти во внутреннюю эмиграцию.
Впрочем, его спасла стилистическая цельность, которая и определяет в нашей стране феномен Познера. Эта цельность абсолютного и законченного космополита, являющегося подданным трех государств и не считающего идеальным ни одно их них.
Людей с подобными взглядами в постсоветской публицистике было немало, но официальную трибуну для общения с публикой сохранил только один из них – Познер. Думаю, что из-за той же самой стилистической цельности. Ведь нынешняя власть плохо воспринимает сложное, мнение о человеке формирует раз и навсегда, и когда этот человек неожиданно для нее перестает соответствовать этому мнению – власть воспринимает это как предательство. В этом смысле, Познер не предавал власть, поскольку всегда оставался в одном и том же образе. Этот образ – человека, в любой ситуации находящего позитив – востребован государством не только как клапан для выпуска пара, но и ловкий способ пропаганды собственных заслуг и собственного стиля руководства.
Вот наглядный пример из воронежского публичного выступления Познера:
«В стране, где толком не понимают, что такое демократия, надеяться, что мы быстро создадим демократическое общество, глупо. Но перемены к лучшему очевидны. Вот я сижу, высказываю мнение. Раньше вы бы не успели рта открыть, как оказались в каталажке. Но еще долгая дорога предстоит, прежде чем Россия станет страной, где жить не страшно».
Мягкий тембр голоса телеведущего усыпляет сознание, интонационно выделенное слово «общество» тешит самолюбие, но достаточно записать сказанное и потом попробовать прочесть его – образ мгновенно улетучивается. Сидишь и думаешь: то ли обругал человек власть, то ли, наоборот, похвалил ее.
В этом и есть феномен Познера.
Для воронежской культуры Познер интересен еще и тем, что когда-то в молодости работал литературным секретарем у нашего земляка, замечательного поэта Самуила Яковлевича Маршака. Вполне естественно, что в Воронеже о Маршаке мэтра телевидения спрашивали всюду, где он только появлялся. Он отвечал охотно, чувствовалось, что личность Маршака имеет особое значение в культурном сознании популярного телеведущего.
«Самуил Яковлевич был человеком широко образованным. Блестяще знавшим русскую литературу. Ну и, разумеется, английскую, – рассказывал Познер воронежцам. – В молодости он очень увлекался Израилем. Прекрасно знал иврит, писал стихи на нем. А потом, когда изменилось политическое положение в стране, эта страница его жизни была наглухо закрыта. По сути никто не знал, и не знает по сию пору об этой части жизни Маршака.
Каким он был в быту. Он понимал, что хотя мы и подружились (я, в некотором роде, заменял ему умершего сына), я никогда не позволю себе назвать его на «ты», поэтому величал меня исключительно Владимиром Владимировичем и на «вы», хотя мне тогда было 24, а Самуилу Яковлевичу раза в три больше.
Для меня Маршак значил очень многое. Он фактически дал мне новое, другое образование! Я заново прошел всю русскую литературу, встречался у него с выдающимися писателями – мне позволялось тихо сидеть в уголке, когда свои произведения читали Твардовский, молодые Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Я частенько сидел у изголовья Маршака, когда он болел – такой маленький, с большой головой, и такими мягкими ушами, которые все время хотелось потрогать, но, конечно, я не отваживался. Он мне говорил: «Поедем в Англию, купим конный выезд, вы сядете на облучке и будете завлекать красивых женщин. Но внутри буду сидеть я, потому что вы не умеете с ними обращаться!»…
После этих слов подумалось: а можно ли о самом Познере сказать, что он дал кому-то «новое, другое образование»? Вряд ли… Его судьба сложилась так, что всю жизнь ему приходилось ходить по весьма тонкому канату, натянутому между лояльностью к власти и профессиональной репутацией. И все, что сделал в журналистике Владимир Владимирович Познер, было произведено именно на этом канате. Не думаю, что это гарантирует высокий художественный результат. Но, безусловно, является впечатляющим профессиональным достижением. Впрочем, в своей долгой семидесятидевятилетней жизни Познер пока еще не сделал поступков, которых ему стоило бы стыдиться. А это, по нашим временам, уже подвиг.
Сегодня Владимир Владимирович Познер делает все, что может для защиты профессии от окончательной деградации. В Воронеже о нынешних печальных делах в журналистском цехе мэтр говорил много. Наиболее четко его позиция была изложена в книжном клубе «Петровский»: «Журналист, на самом деле, имеет долг не перед государством, а перед публикой, к которой он обращается. Он должен ее информировать – честно, полно и объективно, насколько это возможно (мы все-таки не роботы). А вот если этот самый долг журналиста не совпадает с тем, что ждет от него хозяин, то у каждого из нас остается простой выбор: либо отказаться от своих принципов и перестать быть журналистом, либо – искать другого хозяина. Хотя, уверяю вас, в большинстве стран современного мира, можно сочетать и то, и другое».
…На следующее утро, вернувшись из Воронежа в Москву, Познер выложил в своем блоге слова какого-то своего зарубежного друга. Мне показалось, что они точнее обозначают проблемы современной журналистики, нежели те, которые телеведущий произнес в нашем городе:
«Когда пришли за евреями, я промолчал, потому что я не еврей. Когда пришли за коммунистами, я промолчал, потому что я не коммунист. Когда пришли за членами профсоюза, я промолчал, потому что я не член профсоюза. И когда пришли за католиками, я промолчал, потому что я не католик. А когда пришли за мной, некому было уже говорить…».
Дмитрий Дьяков