Язык – самая большая ценность в России. Самое значимое для России и самое интересное у России для мира свершено в области языка. Наверное, это высокопарные максимализмы, но все же отечественный литературоцентризм – единственная и бесспорная ценность, имеющая мировое и даже вселенское измерение. Позади – лишь контуры и размытые очертания иных форм культуры и жизни.

Есть, конечно, русская природа, русская душа, русская икона, русская идея, русская песня и русская тоска; есть и русская история и русская жизнь, есть русский космос и русская наука. Ошибочно все сводить к языку как лингвистическому феномену. Но язык в России не только и не столько лингвистический феномен; это, правильнее сказать, мистический феномен, ибо здесь все, в конечном счете, становится зримо и очевидно, будучи явленным в языке и через язык.
Разве у других народов иначе? У греков, немцев, китайцев, испанцев язык не высшая ценность? Человек, вне зависимости от своей национальной принадлежности и культурной идентичности, во многом антропологически и есть языковое существо. От Аристотеля, определившего способность к логосу в человеке как божественный дар, через Гумбольдта с его апофеозом языка как «духа народного», до Хайдеггера, изрекшего фундаментальную максиму: «язык – дом бытия», мы видим бесконечную апологию языка в европейской культуре.
И все же, в России язык – нечто иное. Если у других народов это, по преимуществу, феномен культуры, то в России язык есть феномен бытия, сама первозданная стихия, взывающая к осмыслению, переживанию, удивлению. Границы между языком и бытием столь незримы в России, что часто глубинное чувство языка, владение его потаенными сокровищами принадлежит людям как бы малокультурным и малообразованным по светским канонам культурности и образованности. Парадокс, но это так. Неслучайно все великие творцы русской литературы стремились в эту темную глубину темного русского логоса.
Сколько было сказано удивительных слов (хотя бы в диапазоне от Мандельштама до Бродского) о таинстве русского языка. Мандельштам очень тонко, почти нервически чувствовал «звучащую и говорящую плоть русского языка». В статье 1921 года «О природе слова» он говорит: «…русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка, не вмещающейся ни в какие государственные и церковные формы». Это то, что отличает русскую языковую ситуацию от западной, считает поэт, чье поэтическое творчество само исчисляется европейским масштабом. И далее, откровение за откровением: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотой явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни».
А вот пронзительно-точные слова Вячеслава Иванова («Наш язык» 1918 год): «Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу нашему в его языке. <…>С таким языком народ наш не мог не исполниться верою в ожидающее его религиозное вселенское дело». Поэт-философ считает, что в стихии нашего языка посеяны и «всякое гениальное умозрение» и святость. Поэтому и Пушкин, и Сергий Радонежский в равной мере овеяны «родным словесным древом», из которого вышли, получив свои духовно-творческие задания.
Наверное, оно уже наивно, но один из виднейших представителей отечественной культуры видел наше предназначение в нашем языке. То, что Иванов называет «религиозным вселенским делом», не есть вульгарный национальный мессианизм, но наша мечта и надежда, с которыми связаны самые светлые порывы души и самые невероятные и дерзкие перспективы. Историк русской мысли Борис Яковенко сказал, что Толстой и Достоевский «по силе духовного воздействия на свой народ и все человечество не знают себе равных».
Одно из самых оригинальных проявлений русской философии – имяславие – направлено на постижение сокровенных глубин языка как носителя и выразителя высшего смысла мироздания. Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Алексей Лосев, Михаил Бахтин, Сергей Аверинцев, Георгий Гачев – великие представители этой традиции, их наследие еще далеко не в полной мере осмыслено.
Русский язык – это не школьный предмет и не предмет обладания одних лишь профессиональных литераторов.
Русский язык – и есть русская культура в своем самом высшем и таинственном измерении. Он зовет к непрестанному творчеству, он соблазн и безумие для творческого человека, находящегося под вечным очарованием языка. Такова магия языка, его власть, самая пьянящая и обольстительная, несравнимая ни с какой мирской, которая, как водится, традиционно косноязыка, нема и глуха, не умеет говорить со своим народом и не имеет с ним обратной связи.
Отсюда извечный трагический парадокс: интеллигенция обладает языком, но не властью, власть лишена языка, но имеет власть, то есть всевластие. Власть в России («Послания Курбскому» Ивана Грозного – исключение, да еще может быть пара примеров) – самое косноязыкое и безъязыковое сословие. Всегда говорит политологическими канцеляризмами, никогда не догоняющими дух времени и не понимающими его. Живой язык ей недоступен, он никогда не будет ей принадлежать. Письмо Ленина – интересный феномен; но здесь есть письмо – и нет языка.
Поэтому в истории отечественной культуры всегда сталкиваются власть языка (интеллигенция) и язык власти (сама власть). Власть всегда недолюбливала интеллигенцию за ее обладание языком как пространством духовной свободы. Поэтому власть пытается присвоить язык, которым располагает интеллигенция, в угоду корыстным нуждам. Но живой язык сопротивляется, он готов нести любые жертвы, лишь бы сохранить честь и достоинство. Вот и борется всегда власть в России с интеллигенцией, борется, прежде всего, за обладание языком как главным носителем духовной свободы.
Дело не в том, что плоха та или иная власть, сменив которую на лучшую можно что-то изменить. Власть борется со словом как главным носителем духовной свободы. Это, возможно, какое-то естественное (или, скорее, противоестественное) сопротивление, необходимое для творческого развития культуры, которая в России всегда вопреки, а не благодаря. И во власть всегда идут люди, которые органически чужды живой стихии языка, его духовной свободе.
Интеллигенция борется не столько за политическую свободу, сколько за духовную свободу языка. Поэтому так значима литература в России, ведь именно словесность сохраняет возможность внутренней – духовной и нравственной свободы. Роль Пушкина как создателя языка, свободного от церковно-государственной детерминации, переоценить нельзя. Конечно, это процесс во многом объективный, определяемый внутренней эволюцией языка, соотносимый с эволюцией культуры. И все же Пушкину здесь принадлежит особая заслуга, ибо, по словам тонкого эстета и философа-герменевтика Густава Шпета: «Русская художественная литература героически боролась с кирилло-мефодиевским наследием в языке, и когда воссиял Пушкин, болгарский туман рассеялся навсегда».
После Пушкина произошло освобождение языка от церковно-государственного покрова. У церкви, как и у власти, тоже нет своего языка, нет того языка, который свободно, искренне и глубоко влиял бы на умы и души. Такой язык появился у литературы (по слову Томаса Манна – «святой русской литературы»), ставшей подлинной «властительницей дум». Вот почему власть и устроила тяжбу с Пушкиным (церковная в том числе), заигрываниями и угрозами стараясь отобрать у него эту божественную власть языка, которой он обладал и которую он подарил своим потомкам, прежде всего Достоевскому, который смог по достоинству оценить это в своей «Пушкинской речи».
Без гражданского общества только литература может выполнить функцию, необходимую для нормального человеческого существования. Борьба за язык – это борьба за жизнь русской культуры. Мандельштам потому и говорит, что отпадение от языка для России есть отпадение от истории, что есть историческая смерть. В той же своей статье он пишет: «…русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова». Вот люди, работающие на ниве слова, и борются за сохранение истории и культуры, тем самым за сохранение русской государственности.
Что сегодня? Борьба за язык продолжается. Современный, мягко сказать, «политический дискурс власти» далек от реальных запросов жизни и культуры. Но власть сегодня не пройдет мимо чрезвычайно значимых явлений культурной жизни. Речь идет, конечно же, о Платонове и о Платоновском фестивале. Неподдельный интерес власти к этой фигуре и поддержка творческих инициатив интеллигенции – значит одно из двух. Либо действительно наступают новые времена, когда власть реально обращает внимание на язык, но не с целью его приручить, а с целью научиться той внятности, которая необходима для откровенного диалога со своим народом. А большей душевной наготы и искренности, чем Платоновской, трудно себе представить. Либо это новая уловка, стремление подчинить себе слово культуры, слово живое и неприручаемое, через видимость административной заботы.
Владимир Варава
Иллюстрация Марина Демченко
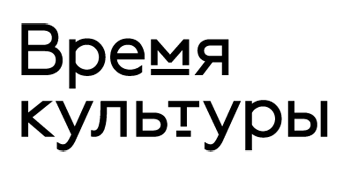



1 комментарий
Очень задела фраза: «У церкви, как и у власти, тоже нет своего языка, нет того языка, который свободно, искренне и глубоко влиял бы на умы и души».
Откровенное передергивание фактов — мало того, что у Церкви всегда был и есть собственный язык (церковнославянский), отрицать его влияние на умы и души по меньшей мере странно. Не влияет он только на души тех, кто не слышит и не читает тексты на этом языке. Но то же самое можно сказать и языке литературы, который так превозносит автор: современные нечитающие подростки вряд ли находятся под влиянием Толстого и Достоевского, Пушкина и Платонова. Так что, думаю, автор погорячился, говоря о «всем человечестве», которое якобы находится под их влиянием. Далеко не всё: кто-то под влиянием дворового сленга, а кто-то — под влиянием того самого языка церкви, который автор так яростно отвергает.
А еще я совсем не согласна с автором, что «после Пушкина произошло освобождение языка от церковно-государственного покрова». Отделение от «церковного» покрова произошло в языке не после Пушкина, а после Петра I — после введения гражданского шрифта, разделения книг на светские и церковные, заимствования огромного количества слов из западноевропейских языков и т.д. И вообще активная секуляризация общества началась именно тогда, при чем здесь Пушкин? Пушкин уже вырос и сформировался в этой безбожной атмосфере, он ее дитя и жертва — я всегда так его воспринимала. Уже в зрелом возрасте он стал переосмыслять свои взгляды насчет религии, но почему-то все, что он писал в пору своих юношеских исканий и заблуждений, выдается за истинно пушкинское, и из этого делаются такие далеко идущие выводы.