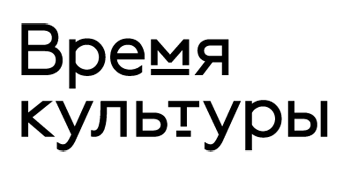Рассмотрим существование Воронежа в качестве культурного пространства. В этом качестве он, несомненно, существует, несмотря на возможность появления текста под названием «Воронеж как его отсутствие», иначе где бы, скажем, могло располагаться младенчество Бунина с бутафорским домиком его родителей, или простодушное железное перо топографа, землемера и метафизика местности Платонова, или краткосрочная тень бритого/лысого Улисса Нарбута с его сладкоголосым журналом для воспроизведения акмеистических вечеров, и юность Замятина, город покинувшего ради призраков более крупных кораблей, чем те, что шли к Азову.

И Эйхенбаум, уехавший, впрочем, тоже в юношеском, подростковом почти возрасте семнадцати, кажется, лет, из докторской семьи, из уютно свернутого кокона, из зеленого, салатовой зелени, свертка центра города, из глухой, заглушенной, в валенках зимы, из неповторимой, так, что уши кажутся заложенными, и из кокона в коконе — из золотого, медленного, медового кокона домашнего света — не жесткого, современных новостроек, а того, который еще сохранился именно там, где Эйхенбаум жил, в тех местах. Все это держится, кажется, на каких-нибудь двух-трех иголочках, булавках, которые крепят бумажный план города к обоям ландшафта, что староваты, успели слегка устать и предательски потрескивают в точках укола, грозя обнаружить серую, влажную штукатурку, ребра, каркас. В каких, собственно, местах происходит это прикрепление — там, где чудом попустительства сохранились осколки декора десятого года, его решетки, лепнина, которой уже не узнать, не признать медуз-горгон, кариатид неоклассики, курсисток для радушного приема Комиссаржевской-Маяковского? В ублюдочной яме одной из квартир Мандельштама — как не вспомнить его астму, виолончельную щель Ансельмуччио, на игольное только ушко? В странных полукупеческих-полумещанских особнячках на склонах правого берега, чье голландское описание известно любителям изящной словесности? Ну, уж, кажется, не там, где высятся стыдные остовы церквей либо их более-менее удачно раскрашенные стараниями местной епархии трупы, улыбчивые косметические мертвецы. Адмиралтейский Успенский шпиль, иллюзорно благопристойный, не способен сшить эту землю с небом, церковь по колено в воде, фундамент погружается в заболоченный берег водохранилища, какие-то иностранные люди собирают средства для спасения утопающих, которое известно, чьих рук дело. Сакральная невостребованность колокольни компенсируется ее использованием в качестве зоны выявления особенностей национального характера, всегда связанных с загулявшим свободомыслием.
Мелкий, нежный гвоздик: старинная афишная тумба, на которой более уместны были бы дуровские аншлаги, нежели наблюдаемые сейчас. Есть еще ржавая от сырости кнопка, прикрепляющая еврейское кладбище, эти толстенькие надгробья с верхушками в виде трапеций, напоминающие супружеские кровати, желтый, расплавленный снег, загаженный воронами и окрестными пьяницами, сомнамбулия снегопада, нелепая уборная строителей соседней многоэтажки почти в кладбищенской ограде, голубоглазая кошачья девушка, с удивлением выглядывающая из-под машины вослед удаляющемуся любовнику, который тощ и независим. Летом там, говорят, появляется сторож, пугающий любителей меланхолического уединения и химически индуцированного времяпровождения.
Еще жив сельскохозяйственный институт, отдельная зеленая роза, любимое место прогулок вышеупомянутого классика, чье доверие к зоологии не раз отмечалось биографами, а тема чернозема под конец просто навязла в зубах — было ли в этом что-то искусственное? Так или иначе, стеклянный купол здания отсылает к образу какого-либо смутного берлинского вокзала в кино из жизни революционеров, архитектуре музея Орсэ в Париже или шуткам Портогези с сотрудниками, обнаруженным, увы, на репродукции. Не с чем сравнить этот объем пыльного, дрожащего воздуха, разве что с какой-нибудь библиотекой, так ли уж необходимой учтивым горцам, обучающимся здесь? Время строительства корпусов совпало со временем советских классификаций, когда был написан «Ламарк»; Шкловский считал его барочным, это время деталей, оно меж тем закручивалось в бараний рог. Живое барокко города — не педалируемый путеводителями особняк Кваренги, и не рифмующийся с ним будто бы Ринальди, и не условный, многажды перестроенный Растрелли, — а летняя улиточная листва лентяя, сирень, райские кущи.

Самодержец планировал центр города для корабельных нужд по примеру своей северной столицы, по такой же простодушной линейке, но пространство в этом месте поступило иначе: презрев среднерусскую привычную плоскость, оно обрушилось в реку, образовав воздушную яму, закрученную спираль. Овальный объем для летания, воронкообразную зелень с утекающими на ее дно строениями можно обнаружить и сейчас, чувствуя эту форму, вероятно, при помощи вестибулярного аппарата: с одной стороны, в центре города всегда подташнивает и кружится голова, как на карусели, и вид прекрасен, и легче дышать, с другой — непременно ощущаешь пределы, наводящие на мысль о не вполне зримых, но от этого не менее реальных стенках воронки. Как будто лежащее пространство делает жест — от себя, и все уходит в этот жест. Эта местность описана, имеет свою мощную мифологию: Кольцов пел плоские пространства; профессиональные знания позволили Платонову назвать все это котлованом; автор «Неизвестного солдата» был выброшен в разреженный эфир этой сжатой пружиной, успев отметить обрыв, берег, львиный ров.
Внутри вышеописанной воронки находятся в свободном парении: классический особняк губернатора; гостиница «Бристоль», ныне «Центральная», вырождающийся русский модерн со сказкой о генерале Шкуро и Олеко Дундиче на балконе; деревянная, расписная, варварская восточная шкатулка для жуков-древоточцев — бывший табачный магазин, пиратская лавчонка с запахом колониальных товаров, ныне погубленная кооператорами; красного кирпича университетская библиотека, останки коей ностальгируют о своем дерптском замке. Затерявшаяся во дворах синагога — обыкновенно, склад. Унылоплечий бронзовый Никитин и два Кольцова — маленький белый бюстик с почему-то звездой Давида на постаменте, в сквере своего имени, и обращенный к вечнозеленому водохранилищу монструозный колосс в шинели Железного Феликса.
Внутри города хранятся коллективные сокровища памяти группы авторов, код их юности, предметы тайных перемигиваний: золотой португальский портвейн в буфете Дома Офицеров, ночные прохладные прогулки в новой шелковой коже, воздух, протекающий тело насквозь через открытые форточки пор, кубинский табак, запах ночной фиалки, велосипед и купания, голубые джинсовые крылья, утренние зябкие улицы, ведущие к вокзалу, мальчики с цветными конвертами пластинок в руках, халтура в ТЮЗе, китайский свиток заснеженного побережья с висящим посредине расплывающимся островом и маленьким четким иероглифом лыжника внизу, — все сохранится, все хранимо, кинопленка, которой не сгореть, не быть смытой. Мы, конечно, погибнем на рассвете на шоссе Москва– Ленинград, как ты когда-то хотела, мы захлебнемся горькой водой многочисленных морей Южной Аравии.
Город, как, впрочем, и многие другие, содержит свою структуру сновидений, чья застройка отличается от наблюдаемой физическим взором, перекрываясь с нею примерно на треть, имея свою архитектуру, тупички и переходы, ощущаемые порой при обычных перемещениях. Путешествия в данных областях улучшают знание истории, позволяя наблюдать город в более истинном, что ли, свете, давая представление о многих объектах, не зафиксированных на генплане. Нельзя с уверенностью утверждать, чтоб город там был как-то особенно хорош, нет, там управляется все та же немного неряшливая метафизика, о которой сновидец имеет представление по собственной дневной биографии, продуктом города являясь и сию метафизику, видимо, размножая, но там можно посетить церкви и монастыри, которых ранее было великое множество и которые теперь забыты охраняться государством за физической невидимостью.

В этой связи кажется уместным вопрос: как, по каким законам изменяются со временем места существования, ареалы обитания? Кроме как особенностями птичьих миграций, невозможно объяснить отсутствие действующих лиц на скамейке с фольклорным названием «банан», над которой нависает дикий виноград, некогда укрывавший курящих филологинь от взглядов любопытных прохожих, — редкая птичка нынче залетит под его сень. Или, скажем, сквер имени великого прасола — что подвинуло его в конце семидесятых стать прибежищем хипни, добела вытершей об асфальт свою франко-американскую парусину, всегда имевшей шанс распродать фонотеку, расплеваться с братом — членом Римского Клуба, загнуться от цирроза, — потом обернуться оазисом предприимчивых жриц любви, а теперь и вовсе превратиться в какой-то долгоиграющий цветомузыкальный фонтан, воскресную жвачку для бедных? Некогда здесь было немецкое военное кладбище.
Зачем, вообще, город склонен как-то устраиваться, именно что с насмешкой располагая увеселительные, легкомысленные свои заведения и места прогулочных скоплений народа над областями подземной печали? Вот одно из старинных городских кладбищ, обращенное сперва в парк Живых и Мертвых с танцами по выходным (сокращенно — ЖиМ, шестидесятые годы, жизнь настоящих ковбоев, жимолость кладбищенская в этом слове все же сохранялась), а затем в площадку под строительство цирка, с успехом завершенное. Вот дворец спорта и массовых мероприятий над вторым, не менее почтенным. И не убеждайте меня в происках муниципалитета, в профессиональном беспамятстве.
Люди, которым здесь приходится заниматься различными искусствами, с удивительным единодушием отмечают абсолютную неприспособленность города к этим занятиям. Трудности, по всей вероятности, связаны не столько с провинциальной инерцией, отсутствием востребованности и хорошей критики, сколько с функционально иными задачами, которые эта местность призвана решать. В давние времена она служила пограничной областью между Московским государством и южными степями, контрольно-пропускным пунктом, поселением полувоенного типа. Устойчивая же театральная репутация Воронежа, при отсутствии реальных оснований для таковой, связана, видимо, с тем, что пограничник, находящийся в пограничном состоянии город или человек, всегда имеет в себе функцию декорации, нечто бутафорское, знак о переходе из одной реальности в другую. Театр, стоящий на грани колебаний физического мира перед его рассыпанием, всегда намекающий на преобразование, на другое. Он даже не мост, не такая, к примеру, часть речи, как союз, он — фикция в качестве реальности, он отсутствует в качестве объекта. Во время войны эта его функция обнажилась: город стоял, как пустые декорации, страшные. Смерть Кольцова не является следствием его семейных передряг с чахоточной купецкой вдовой, она есть логика города, который подбирает людей себе по вкусу.
Как если бы подниматься на фуникулере, видеть сцену реки, зеленые ярусы и ложи, юношеский Колизей, описанный опальным поэтом. Происходящее натягивает свою ежесекундную золотящуюся паутинку; для таких местностей пишутся вариации на темы «Вильгельма Мейстера» и «Коричных лавок» с их наблюдательной метафизикой. Бергман, которого интересуют подобные вещи, видимо, великий дилетант от театра.
Город устраивается так, что, возможно, однажды, ближе к утру, невидимая рука, высунувшись из водохранилища, потянет на себя его скатерть со всеми рюмками, тарелками, окурками и объедками и утащит на дно, что будет сопровождаться мощным облегченным вздохом усталого пространства. Мы находимся в ожидании тишины, и попытки прибегнуть к обману во избежание своей судьбы кажутся бессмысленными.
Елена Фанайлова, Москва
Фото из архивов воронежского областного краеведческого музея