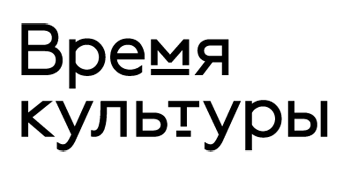Об угасании гуманитарного знания сейчас говорят очень много: в обществе стабильно формируется представление о гуманитарных науках как о чем-то второстепенном. При этом факт остается фактом – без филологии, философии, искусства общество рискует отдалиться от гуманизма на опасное расстояние. На эту тему мы решили побеседовать с деканом филологического факультета воронежского государственного университета, профессором Виктором Акаткиным.
– Виктор Михайлович, давайте начнем разговор с современной литературы, русской в том числе. Одно из ее свойств – скандальность, эпатажность, провокативность. На ваш взгляд, как это характеризует современных писателей и сегодняшний литературный процесс?
– Я считаю, что в нашей стране такие тенденции сформировались на волне протеста против всего советского. Все помнят нашумевшую статью Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе». Однако на одном протесте никогда ничего серьезного не возникает. На самом деле труднее не идти против течения, а находиться в русле и развивать традицию: здесь надо глубоко вникать в то, что сделано до тебя, а потом уже воплощать это в своем творчестве. А вот отрицая прошлое очень легко прогреметь и прославиться: на голой почве всегда будешь заметнее. Все это мы уже проходили, и не раз. В годы революции были призывы сбросить с «парохода современности» Пушкина, Толстого, Достоевского; в годы перестройки – призывы избавиться от советского литературного наследия. На этом во многом построено постмодернистское мышление и отношение к жизни.
Такое мышление обязательно стремится быть протестным. От этого меняется и лексика, которая за последние годы претерпела значительные изменения и привела русскую словесность к глубокому кризису: в речи протест выражается в форме симулякров, пародирования, жаргона и кАлек со всего иностранного. Но куда ведет этот протест? К пустоте. Раз ты все отрицаешь, ты сам оказываешься в пустоте, если при этом не создал что-то великое. Если вернуться к литературе – что за последние годы можно отметить как нечто выдающееся? Для меня среди этих литературных имен – Прасолов, Рубцов, Жигулин, и все это как раз непротестные имена.
– Вы являетесь специалистом по творчеству Твардовского – всю жизнь изучаете его жизнь и произведения. Чуть больше 70 лет назад, в разгар Сталинградской битвы, в газетном варианте начала выходить поэма «Василий Теркин». Каково, на ваш взгляд, положение этого произведения в нынешней литературной среде? Оно теряет свою актуальность?
– «Василий Теркин» тоже относится сегодня к разряду произведений, которые не принимаются обществом. Я же считаю, что это величайшая поэма и через годы ее будут воспринимать как «Слово о полку Игореве», как многие великие вещи прошлого. Твардовский самый крупный поэт 20-го века, не побоюсь этого слова. «Василия Теркина» стали сразу читать в окопах, и писателю приходило огромное количество писем – и от простых солдат, и от офицеров. Они лучше критиков поняли эту поэму. При этом многие считают, что «Теркин» воспевает советскую власть, на самом же деле, властей многое в этой поэме не устраивало. Например, там нет ни единого упоминания Сталина и партии. Представьте – в то время! Это еще раз доказывает, что «Теркин» не про советскую власть, и не про войну. Эта поэма – о человеке. Я думаю, мы вернемся к Твардовскому, несомненно. Но для того, чтобы вникнуть в эту книгу, нужен труд души. А сейчас почти не читают.
– Да, к сожалению, книга как социальный феномен сегодня остается все менее востребованным явлением. С чем вы связываете нынешний кризис чтения в стране, уменьшение ценности книги в жизни человека?
– Когда я учился, было стыдно не прочитать ту или иную книгу, даже если она была в числе запрещенной литературы. Читали ночами, до рези в глазах. Чтение было частью этикета интеллигентного человека. Сегодня это не так, сегодня люди не хотят над собой работать. Книги надо переживать, ими нужно жить, испытывать порой настоящий катарсис. Не так давно я писал предисловие к сказкам Платонова. И я там пожелал ребятишкам – страдать. На меня, конечно, все набросились – как вы можете такое писать? Но ведь от того, что человек исключил из своей жизни страдание, а наполнил ее наслаждением, он обедняет себя невероятно. Страдание воспитывает благородство и понимание другого человека. Из страдания возникает сострадание.
– А что бы вы посоветовали своим ученикам, кроме того, чтобы научиться страдать и уметь сострадать? На какие категории – жизненные и литературные – пытаетесь обратить внимание своих студентов? Какие основные принципы используете в преподавании?
– Я стремлюсь обратить ребят к истории нашей литературы, к истории нашей страны, и очень часто называю имена великих людей России – воинов, поэтов, прозаиков, ученых, филологов. У нас очень достойная история, и я хочу пробудить это в ребятах – уважение к ней и к России.
В целом, как педагог, могу сказать, что роль учителя – оценить даже молчащего ученика. Это относится и к школьному образованию. Грамотность и знания снизились у школьников, так как идет сухое натаскивание для программы ЕГЭ. Это не широкое обучение, а деловое, прагматическое. И оно предельно узкое. Ведь не всегда только бойко отвечающий человек хорошо образован. И в молчащем ученике может происходить какая-то большая внутренняя работа: в определенный момент он проявит себя обязательно. Сейчас никого уже не интересует живая реакция ученика, читателя, человека на то или иное произведение. Ученик должен подстраиваться под методики. А ведь в литературе могут быть справедливыми сразу несколько мнений, даже совершенно противоположных. Попробуйте вы оценить однозначно Шекспира, Булгакова, Толстого. Писатель сам противоречив как личность, он сам ищет, сам порой не уверен. Поэтому не всегда баллы, которые выставляют, объективно показывают знания ученика.
А ведь Добролюбов имел по языку тройку. И стал выдающимся критиком. И многие большие люди не были отличниками в школе. Есть такой пример. Когда ректор МГУ Садовничий сдавал экзамены, он блестяще решил первую задачу, и не решил вторую, так как этой темы не проходили в его школе. Но его приняли на матфак, потому что почувствовали, что он мыслит как математик. На мой взгляд, чтобы решить проблему необъективной оценки абитуриентов, нужно отменить вступительные экзамены в вуз. Принимать всех. Подал заявление – пожалуйста, учись. Как это делается в некоторых странах. Те, кому это не нужно, отсеются сами.
Если же вернуться к тому, что я хочу донести до своих студентов, то это, конечно, посыл стать гражданами, не пассивными людьми. Рвись на ту высоту, которую ты себе наметил, добивайся. И мечтай. Сейчас мечта тоже вышла за пределы приемлемых категорий. «Да ты что утопист, мечтатель?» – говорят тебе. Мы стали жить без мечты. Это очень опасно.
– Да, если говорить о более глобальном контексте, то человечество, и наша страна в частности, сделали ставку на более суровые и строгие категории, на научно-технический прогресс. Многие видят в этом опасные тенденции, окончательное угасание гуманитарного знания. Сейчас активно обсуждается сокращение гуманитарных специальностей в вузах. Можно ли проиллюстрировать эту тенденцию на примере филфака ВГУ?
– Конечно, тяжелая демографическая ситуация и недооценка гуманитарного образования привели к сложной ситуации в сфере гуманитарного образования. Оно становится ненужным, поскольку не кормит, не создает новые технологии. Сейчас на факультете мы имеем совсем небольшой конкурс – 1,5-2 человека на место. Набор сократился. В 90-е у нас был набор 75 человек, теперь только 29. Заочников раньше было 100 человек, теперь ни одного. Вечерников мы набирали 25 человек, теперь нам оставили возможность взять только десятерых. Однако при этом мы продолжаем развиваться, активно работать. У нас очень большая аспирантура. Ежегодно мы принимаем 14-15 человек в дневную и заочную аспирантуру. У нас есть два докторских совета – по лингвистике и по литературоведению, мы издаем вестник литературоведения и языкознания «Филологические записки», сборники трудов студентов и даже имеем научное общество учащихся, в которое входят школьники – более 100 человек. И мы единственные в университете выпускаем сборник научных работ учащихся. И еще недавно мы открыли два новых направления на факультете – «Книжное дело» и «Искусства и гуманитарные науки».
– На ваш взгляд, к чему в итоге может привести то, что интерес к гуманитарным наукам сейчас угасает, и станут ли они скрепляющим элементом между людьми, как это было прежде?
– Знаете, в 90-е много говорили, что 21-й век будет гуманитарным, гуманистическим. И все будет перестроено и в школе и в вузе, будет содружество между учителем и учеником. Пока этого нет, конечно. Жесткость в отношениях между людьми в обществе отнюдь не гуманитарная. Как раз мы пошли в другом направлении – в направлении умаления этой самой гуманитарности. В сторону курса валют. Но мне кажется, что общество одумается в конце концов. И поймет – как ему необходимы филология, искусство, живопись, формирующие духовное содержание жизни. Скорее всего, человек все-таки победит свой пессимизм, ощущение безнадежности, начнет стремиться укрепить самого себя, свою душу. Это даст возможность понять других людей, ощутить себя сильным, непоколебимым. И даже смерть будет не страшна.
– А какой вы видите в таком случае сверхзадачу именно филологии?
– У известного русского филолога Сергея Аверинцева есть такое высказывание: «Филология – есть служба понимания». Вот этого нам всем сейчас крайне не хватает. Мы говорим друг другу слова, но мы друг друга не понимаем. Эта тенденция наблюдается и в мире, и в нашей стране, и внутри любого коллектива. Отсюда всевозможные ссоры, конфликты, драки, войны. Особенно я это замечаю в период выборов, когда к нам бесконечно приходят с бумагами на экспертизу. Спрашивают – вот, мол, этот человек выступил против меня, разъясните, оскорбление или нет? Такое знание доступно только филологу – он понимает не только смысл слова, но и оттенки смыслов, восприятие выражений в рамках контекста. В одном случае это оскорбление, а в другом, хотя и резкое высказывание, это не оскорбление, а полемический прием.
Но, я думаю, у филологии есть много других задач, кроме того, чтобы налаживать «службу понимания». Например, в последнее время резко снизилась культура книгоиздания. Если посмотреть на книгу, изданную в 19 веке, в ней невозможно найти ни одной ошибки, опечатки, и ее приятно держать в руках. Тогда издательское дело, редактура, корректура были на совершенно ином уровне. Корректоры правили даже самого Льва Толстого. Сейчас книги выпускаются архискверно. Раскрыл такую книжку – переплет тут же развалился, в самой книге масса ошибок, это, между прочим, наблюдается даже в научных изданиях. Я все это связываю с понижением всеобщей требовательности – как к качеству книг, так и к языку.
– А от кого должны исходить требования?
– От нас самих. Повторюсь, раньше журналы хватали из рук друг друга, давали на ночь читать, были бесконечные дискуссии среди студентов – в общежитиях и аудиториях. А сейчас в коридоре факультета не услышишь ни одного стихотворения. Раньше студенты спорили, доказывали что-то друг другу, если кто-то что-то неправильно произнес, бежали в библиотеку, искали в словаре, как это пишется, как это произносится, где ставить ударение. Сейчас этого нет. Какая-то всеобщая нетребовательность. И человеком можно быть любым, «лохматым», нечистоплотным в нравственном отношении – все сходит с рук. Ценности поменялись.
– В одной из своих статей вы пишете на эту тему: «.. все ныне восстало против божьих заповедей и кантовского нравственного императива. Такая обнаружилась тяга к примитивно-животному, упрощению и самораспаду, будто мы уже достигли всех высот и нечем нам заняться на земле». Не может ли все развиться по самому плохому сценарию, и в итоге случиться так, как произошло в тоталитарном обществе Рея Брэдбери, в котором все книги подлежали сожжению? Ведь книги у нас уже сжигали – и было это не так давно. В Москве как-то публично жгли произведения Владимира Сорокина. А в Сети даже есть такой сайт «В топку.ру», в котором предлагается список книг, которые по той или иной причине нужно сжечь…
– Я такого не понимаю. Надо прочитать, понять и отвергать только духовно, но не бросать в костер. Это уже попахивает фашизмом. Скорее всего, эти люди не могут справиться, найти аргументов, чтобы возразить на том же уровне слова. Не хватает слов и труда души, чтобы с этим поспорить. Такой наизнанку вывернутый нигилизм. Если не нравится – отодвинь в сторону и думай, почему тебе это не нравится. Хотя сорокинское «Голубое сало» – это тоже эпатаж. И разве это великая книга? Нет. Но жечь книги недопустимо, в любом случае. Это уже было, и намного раньше. Книги жгли, книги закрывали в спецхраны. Но все-таки потом эти спецхраны открыли. Литература русского зарубежья, философия, которые нам были недоступны, вернулись к нам. Жизнь развивается волнами. Мы сейчас на синусоиде падения, но я уверен, что мы поднимемся.
– Виктор Михайлович, а что можете сказать по поводу цензуры в литературе, о которой тоже иногда ведутся разговоры? Как вы относитесь к этой теме?
– В девятнадцатом веке существовала цензура, но именно тогда увидели свет великие произведения. Даже «Бесы» Достоевского. Я не говорю, что нужна цензура в прямом ее понимании. Но жизненно необходима цензура вкуса. Эстетическая цензура. Когда я читал «Русскую красавицу» Виктора Ерофеева, мне показалось, что он с радостью демонстрирует разврат, распутство, низость человека. Но хочется сказать этому писателю: «Остановись и подумай, чему тут радоваться, что тут воспевать?». Классицизм как ведущее направление в искусстве существовал 300 лет, и там была цензура вкуса, приветствовалось только высокое, классическое, которое написано по определенным законам, нормам. Сейчас этих скреп не стало. Но стала ли лучше литература? Нет. Я считаю, что определенная норма, какие-то критерии должны быть. Должны быть требования к художественности и слово должно оставаться высоким. Ведь такое слово, особенно для писателя, это неприкосновенный запас, который нельзя поменять на кредиты, инвестиции или валюту, и именно оно способно помочь выстоять перед духовным распадом.
Евгения Глуховцева
Фото Юлия Беляева