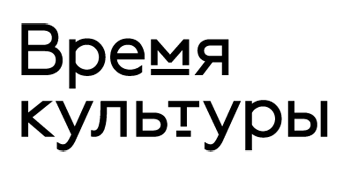Если и есть в историческом краеведении своя особенная прелесть, то она в том, что даже самые привычные, примелькавшиеся места и названия вдруг получают дополнительное измерение. Обретают временной объем, обрастая именами и судьбами. Так, потянув за обтрепанный уголок полотенца, ты вдруг вытаскиваешь целое полотнище, какой-нибудь гобелен из Байё – с грозными знамениями, ордами нормандских всадников и стрелой в глазу английского короля. Нижеследующая история, конечно, будет не столь драматичной, хотя и не без смертей. Это даже и не история, здесь все случайно. Но случайные места приводят нас к людям и случайным, и неслучайным, а те оказываются связаны друг с другом подчас парадоксальным образом, за спинами же их маячат свои дополнительные измерения.

Архивные гусары
На гербе рода Шатиловых, известного как минимум с конца XVI века, изображена белая река, диагональю пересекающая красное поле. Шатиловых едва ли можно назвать коренными воронежскими дворянами: изначально они владели деревнями в Московской губернии, Тульском и Псковском наместничествах. С городом на реке, текущей через Дикое Поле, их связал заурядный случай: в конце XVIII века Алексей Иванович Шатилов, женившись на Дарье Алексеевне Лосевой, получил за невестой имение под Воронежем, в Репном. Теперь это усадьба Сталь фон Гольштейнов.
Наследник Шатиловых – Николай Александрович – до Отечественной войны 1812 года служил в Московском архиве Министерства иностранных дел. Сюда поступала «золотая молодежь», не желавшая покидать родительский дом и перебираться на службу в Петербург. В то же время работа в архиве, будучи, по сути, синекурой, давала широкие перспективы в дипломатической карьере. За целым поколением здешних обитателей закрепилось прозвище «архивных юношей». Придумал его библиофил Сергей Соболевский – также один из «архивариусов» – а Пушкин увековечил в «Евгении Онегине», пусть и не без иронии:
Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Впрочем, и в силу сословия служащих, и в силу их образованности, Московский архив приобрел ореол своего рода элитарного клуба, в рамках которого формировались разнообразные кружки, как, например, литературно-философское «Общество любомудрия». Примечательно, что секретарем последнего – и, разумеется, «архивным юношей» – был не кто иной, как Дмитрий Веневитинов, неслучайный для Воронежской губернии человек. Шатилову он приходился двоюродным племянником.
Война заставила многих из этих молодых людей сменить дипломатическую службу на военную. Некоторые уходили самовольно, без официального разрешения. К их числу принадлежал и Николай Шатилов. Его зачислили поручиком в Московский гусарский полк графа Петра Салтыкова. Это было добровольческое подразделение, и собрались там представители лучших дворянских фамилий, да и в целом колоритные люди – как, например, одиозный граф Федор Толстой по прозвищу «Американец», убивший на дуэлях одиннадцать человек и словно «в расплату» потерявший одиннадцать из двенадцати своих детей. Вступили в полк также и драматург Александр Грибоедов, и композитор Александр Алябьев (тот самый, что позже подарит миру «народные» песни «Соловей» и «Вечерний звон»). Последний поучаствовал в дерзком взятии Дрездена (1813 год) малочисленным отрядом под водительством легендарного Дениса Давыдова.
Судьба сплела имена Шатилова, Алябьева, Грибоедова не только узами боевого товарищества и дружбы. Так, Шатилов женился на сестре композитора, Варваре, и воронежское поместье получило новую хозяйку. Занятно, что еще один приятель и однополчанин Шатилова – Дмитрий Бегичев – был женат на сестре уже упомянутого Давыдова. Впоследствии чете Бегичевых «посчастливилось» стать прототипами персонажей «Горя от ума» – Платона и Натальи Горичей, старых приятелей Чацкого (едва ли случайная деталь). Впрочем, с ними саркастичный Грибоедов обошелся вполне мягко. Шатилову досталось куда больше: с него был списан пустой болтун Репетилов. Действительно ли в характере Николая Александровича присутствовало нечто похожее, теперь уже и не узнать.
На этом фоне и удивляет (ввиду характера Грибоедова) и не удивляет (потому как связи вскрываются на каждом шагу), что брат Бегичева Степан, служивший в том же полку, стал для Александра Сергеевича лучшим другом.
Товарищество, завязавшееся в годы войны, продолжало жить и в мирное время. На протяжении 1820-х годов Алябьев часто гостил в усадьбе Шатиловых. Здесь, под Воронежем, он написал немало романсов и водевилей. Стоит отметить, что и Шатилов пробовал себя в творчестве, на ниве драматургии (уж не за это ли он удостоился уколов от Грибоедова?).
Но, конечно, настоящая жизнь кипела в Москве: с нею связаны самые экстравагантные похождения наших героев, не пропускавших ни одного светского мероприятия. Вокруг них снова образовалась тесная компания. Одним из ее участников был граф Александр Завадовский. Известный англоман и прототип князя Григория в «Горе от ума», он прославился эпатажными поступками. Например, устраивал в цыганских таборах «гладиаторские бои», самолично выходя один на один против медведя. К числу его заслуг принадлежит и популяризация английского алкоголя: именно на его квартире впервые в Петербурге была распита бутылка скотча. Амурные похождения Завадовского прямым образом отразились на судьбе Грибоедова. Завадовский столкнулся с кавалергардом Шереметевым из-за балерины Авдотьи Истоминой и был вызван на дуэль. Речь идет о легендарной четверной дуэли 1817-1818 годов, на которой стрелялись и секунданты (на стороне Завадовского – как раз Грибоедов). Завадовский убил Шереметева, и секунданты отложили свой поединок. Однако такие люди привыкли доводить дела до конца: вторая дуэль все-таки состоялось в следующем году в Тифлисе. Она обошлась без смертей, но пуля искалечила Грибоедову левую руку. Эта травма закрыла ему путь в музыкальную сферу (а он был неплохим пианистом; видимо, общность интересов не в последнюю очередь способствовала и его дружбе с Алябьевым).
Есть мнение, что четверная дуэль отразилась и на мировоззрении Грибоедова, но едва ли то же самое можно сказать о его едком нраве и вызывающем поведении. Так, в 1824 году Алябьев с Грибоедовым устроили настоящий балаган в театре: шумели и аплодировали во время действия, реагируя на игру актеров и увлекая за собой партер и галерку. В антракте к нарушителям спокойствия подошел полицмейстер Ровинский – известный объект насмешек москвичей – в сопровождении квартального. Последовал диалог между Ровинским и Грибоедовым:
– Как ваша фамилия?
– А вам на что?
– Мне нужно это знать.
– Я Грибоедов.
– Кузьмин, запиши, – сказал полицмейстер квартальному.
Грибоедов не преминул отплатить:
– Ну, а ваша как фамилия?
– Это что за вопрос?
– Я хочу знать, кто вы такой.
– Я полицмейстер Ровинский.
– Алябьев, запиши, – сказал Грибоедов своему приятелю.
Едва ли друзья догадывались, что этот курьезный эпизод будет иметь последствия – Ровинский все припомнит, когда Алябьев попадет в беду.
Доставалось от них и интеллектуалам. В том же году Грибоедов схлестнулся с публицистами Дмитрием Писаревым и Михаилом Дмитриевым из-за их критики пьесы «Горя от ума» и водевиля «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (написан в соавторстве с Петром Вяземским). Оппоненты обменивались колкими эпиграммами прямо в театре. Ответы из ложи в ложу носил Шатилов.
Дружеские связи нередко выручали наших персонажей, потому что жили они, определенно, на широкую ногу. Известно, например, что Завадовский занял у Шатилова 50 тысяч рублей, а позднее самому Шатилову дал 11 тысяч в долг Адам Глушковский, известный танцовщик и балетмейстер. Свидетелями последнего займа выступили писатель Михаил Загоскин и некий Владимир Бутурлин (по одной из версий, связанный с воронежскими дворянами). Все – участники все того же приятельского круга.
Столь бурная жизнь, да еще и с привкусом вольнодумства, не могла длиться долго. Грибоедов, претерпев арест по подозрению в связях с декабристами, нашел свою печальную судьбу в дипломатической миссии в Персии (путь туда проходил, в том числе, и через Воронеж). С Алябьевым и Шатиловым также случилась довольно скверная и загадочная история. Однажды, в 1825 году, на московской квартире Алябьева собралась мужская компания, решившая занять вечер винными возлияниями и карточной игрой. В числе прочих присутствовал и воронежский помещик Тимофей Времев. Не хватило ли ему умения или удачи – неведомо, но проигрался он изрядно: сто тысяч рублей. Тогда Времев обвинил соперников в плутовстве.
Алябьев ответил на оскорбления. Как именно – неизвестно. Версии расходятся от «пары пощечин» в советской традиции до удара подсвечником по голове в более старых источниках. Тем не менее, Времев потом отправился в воронежское имение, да по дороге умер.
Алябьев с Шатиловым были отданы под суд (причем история обросла какими-то небылицами о преступной деятельности целого игорного общества), лишены чинов и дворянства и отправлены в ссылку. Композитор не оставил своего творчества и в опале, но дальнейшая его судьба лежит уже за пределами этой истории. Шатилов же вернулся в Воронеж десять лет спустя, и встать на ноги ему помог уже известный нам Дмитрий Бегичев, в то время бывший воронежским губернатором. В 1837 году шатиловская усадьба была отписана дочери, Софье Николаевне, вышедшей замуж за барона Александра Сталь фон Гольштейна. Так усадьба обрела название, под которым известна в наши дни.
От поэта к жандарму
Наследие благородного семейства Потаповых, пожалуй, еще более знакомо обычному воронежцу, чем усадьба в Репном. В здании Потаповского дома теперь находится главный корпус Художественного музея имени Крамского. Кое-что осталось и от имения Потаповых в Семидубравном (ныне село Новая Покровка Семилукского района) – хотя и ничтожно мало, если учесть, что в свое время это было большое и процветающее поместье. Нас же оно интересует потому, что связано с именем Михаила Лермонтова.
Александр Львович Потапов служил вместе с Лермонтовым в лейб-гвардии гусарском полку, расквартированном в Царском Селе. Подобно «драматургу» Шатилову, Потапов пробовал заниматься поэзией. В ответ он получил насмешливое и пошловатое стихотворение от Лермонтова «Расписку просишь ты, гусар». В дальнейшем их пути разошлись, но знакомство не прервалось. По крайней мере, Лермонтов гостил в Семидубравном незадолго до своей гибели. Долгое время считалось, что это было в 1841 году, то есть непосредственно в ходе последней поездки поэта на Кавказ, однако воронежский краевед Борис Окунев доказал, что случилось это годом ранее. Заблуждение же основывается на заметке «Донской газеты», вышедшей в 1877 году, из которой нам данная история и известна. Текст написан со слов Александра Реми, также бывшего однополчанина Лермонтова и его друга. Впрочем, история этой дружбы отражает сложный характер обоих товарищей: между ними бывали ссоры, одна из которых не закончилась поединком только благодаря усилиям приятелей дуэлянтов.
Вздорный нрав Лермонтова подчеркивается и в заметке. Реми – а именно он первоначально собирался навестить Семидубравное по дороге в Новочеркасск – даже не хотел брать с собой «Мишеля», опасаясь его столкновений с каким-нибудь станционным смотрителем или пассажиром. Однако Лермонтов уговорил Реми, пообещав держать себя в руках. Он действительно вел себя на удивление тихо всю дорогу, но якобы пришел в беспокойство, когда узнал, что в имении гостит дядя Потапова, некий крайне свирепый генерал. Лермонтов даже просил приятеля отказаться от визита в Семидубравное. Последнего Реми сделать никак не мог, ибо дал слово, так что в конечном итоге убедил ехать и Лермонтова.
Приехали. На Лермонтове не было лица, он жаловался на отсутствие аппетита. Состоялась встреча и обед с Александром Львовичем и его двоюродным дядей, генерал-лейтенантом Алексеем Николаевичем Потаповым. «Страшный генерал», однако, оказался весьма любезным и дружелюбным. Дошло до того, что когда Потапов-младший и Реми на время оставили собеседников, то после обнаружили их в саду: Михаил Юрьевич и Алексей Николаевич самозабвенно играли в чехарду. Тогда вскрылась история о страхах молодого поэта, что очень рассмешило Потапова-старшего, и он высказался в том духе, что служба и частная жизнь – разные вещи, «в миру» он вполне обычный человек.
Действительно ли дело дошло до чехарды, а если и дошло, то что все это значило – проверить такое не представляется возможным. Зато причины страхов Лермонтова легко объяснимы. Алексей Николаевич в 1825 году был дежурным генералом Главного штаба и принял деятельное участие в арестах декабристов, а после – в Следственном комитете по их делу. За это он удостоился не только двух званий подряд, но и, как говорят, золотой табакерки с бриллиантами от самого Николая I. Так что боялся ли Лермонтов на самом деле или нет, но в присутствии столь одиозного персонажа ему, ссыльному поэту, едва ли могло быть уютно.
Впрочем, и судьба Александра Львовича делает его довольно противоречивой фигурой. Лихая гусарская служба Потапова-младшего, сводившаяся, однако, только к не менее лихой гусарской жизни по формуле «пьянство и донжуанство», окончилась через шесть лет после описанных событий отставкой. Побыв адъютантом у фельдмаршала Паскевича, подавлявшего в тридцатые годы восстание в Польше, и поучаствовав в Крымской войне, он затем занимал не слишком почетные для военного человека, а тем более гусара гвардейского полка, должности обер-полицмейстера в Петербурге, Москве, Варшаве. Венцом же его карьеры стал пост начальника Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, который он занимал дважды: в 1861-1864 и в 1874-1876 годах. И, подобно легендарному графу Бенкендорфу, надзиравшему за Пушкиным, отличился в борьбе с литераторами, арестовав Чернышевского.
В остальном, однако, его успехи на этой службе были незначительны. В 1876 году, на фоне усилившегося по его приказу жандармского наблюдения за школами, публичными лекциями, книжной торговлей и прочими подозрительными вещами и лицами, Александр Потапов был заподозрен в умственном расстройстве и отправлен в отставку. После того он и вправду впал в скудоумие.
Впрочем, не это было главной жизненной трагедией Александра Львовича. Чета Потаповых так и осталась бездетной, что становилось особенно болезненным на фоне огромных размеров имущества, которое надо было кому-то передать. Царь позволил Александру Львовичу усыновить Модеста Ивашкина, отпрыска одного отставного поручика – даже несмотря на то, что последний был жив и здоров.
Но и Модест Ивашкин-Потапов не оправдал надежд. Унаследовав обильные угодья и богатые имения, он потом не единожды их закладывал и перезакладывал. А в довершение ко всему так и остался холостым. Род воронежских Потаповых пресекся с его смертью – в 1917 году. Что сказать? Своевременно.
После того имение в Семидубравном пришло в запустение, да и память о нем сохранилась во многом благодаря лишь фигуре Лермонтова. И речь тут не только о чехарде с генералом, но и о том, что в Семидубравном поэт сочинял музыку для своей «Казачьей колыбельной песни», там же хранились ноты, написанные его рукой, и коллекция уникальных акварельных портретов Лермонтова и его однополчан работы А.И. Клюндера. Все портреты эти (за исключением изображения Лермонтова, переданного в московский Литературный музей) находятся и поныне в запасниках воронежского областного музея изобразительных искусств имени Крамского. Среди этих картин есть, например, изображение Алексея Столыпина по прозвищу «Монго», удалого гусара и светского льва. Родственник и друг Лермонтова, он сопровождал его в последней поездке на Кавказ, и в тот раз путешественники проезжали непосредственно через Воронеж. Даже остановились здесь на несколько дней и покутили… А потом Монго был секундантом Мишеля на последней дуэли. «Вздорный нрав» Лермонтова, добродушного для узкого «внутреннего» круга и язвительного и беспощадного для всех остальных, все-таки привел его к пуле майора Мартынова, двоюродного брата уже известного нам Михаила Загоскина.
***
Воронеж – случайный город на этом полотнище из случайных людей и неслучайных творцов. Едва ли имеет какое-то значение, что кто-то, пусть и великий, здесь проезжал или даже задерживался. Хотя время от времени и кажется, что в рассказанной выше истории Воронеж играл роль пограничной вехи, разделявшей жизнь наших героев на «до» и «после», а то и указывавшей черту между жизнью и смертью. Это неудивительно: ведь и возникла воронежская крепость на окраине Дикого Поля. Здесь пролегала граница, военная и психологическая, словно река между обжитым Мидгардом оседлых крестьян и диковатым Утгардом кочевников. Или взять другую мифическую реку: Воронеж – Стикс, что у врат Аида. И после этого Стикса Грибоедова ждала резня в Персии, Лермонтова – дуэль на Кавказе. И, будто обернувшись незадачливым помещиком Времевым, Воронеж-Стикс добрался до Алябьева, «разделив» и его жизнь. Может статься, и Мандельштам в своем «Воронеж – нож» уловил именно это – тонкую грань?
Михаил Волков
Иллюстрация Марина Демченко, Александр Клюндер