По всему видно, что сегодня как никогда велик запрос на эсхатологическую тематику. Медийное пространство переполнено картинами космических катастроф и различных пророчеств по поводу «конца света». Кинематограф естественно преуспевает в этом. Фильм-катастрофа – один из наиболее популярных ныне жанров, чья популярность является скорее диагнозом культуры, нежели показателем ее своеобразия. Парадокс нынешней ситуации в том, что разросшийся эсхатологизм массового сознания вполне уживается с повышенной любовью к земному и материальному. Тяга к концу является обратным знаком жажды наличного и страха его потери.

Очевидно, что эпоха чистой эсхатологии давно ушла, оставив после себя мутный след страха, в котором соединились самые причудливые представления научного и околонаучного, религиозного и псевдорелигиозного характера. Медийная культура, которая и является сегодня культурой по преимуществу, поддерживает этот неопределенный страх, разжигая в человеке нездоровую страсть к всеобщей гибели. Неумение промыслить будущее, удержать это будущее в смысловом напряжении истины рождает желание подписать этому будущему смертный приговор. Тем самым списав личную безответственность и духовную беспомощность либо на внешние космические обстоятельства, либо на бездуховность рода человеческого, достойного лишь одного – уничтожения.
***
Датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер не относится к числу тех, кто работает на индустрию массовой культуры. Скорее наоборот. Тем более странно и обидно, что его (уже ставший культовым) фильм «Меланхолия» (2011) часто идет под титулом фильма-катастрофы, поскольку именно в этом фильме обналичиваются те иллюзии и страхи, которые переполняют душу современного человека. «Меланхолия» имеет совершенно иную художественную и философскую миссию, нежели фильм-катастрофа. Главное здесь – этическая проблематизация существования как такового.
Вопросы, которые формулирует героиня и которые неотступно возникают в сознании зрителя таковы: «достоин ли мир существования, если в нем есть зло, если есть лицемерное принятие и смирение со злом»; более того: «можно ли оправдывать жизнь, которая и есть зло по преимуществу»? Эти вопросы возвращают к той изначальности существования, о которой человек забыл, неосмотрительно решив, что можно прожить заочно, «по касательной», так и не соприкоснувшись с трагической глубиной мира.
В этом смысле «Меланхолия» – серьезная философская притча, рисующая точную картину духовного состояния общества, что делает его знаковым явлением современной культуры. По своей сути – это скорее экзистенциальная драма, в которой поставлены традиционные философские вопросы о смысле и бессмысленности жизни, уходящие вглубь античной трагедии, философии Августина и Паскаля, Шопенгауэра и Ницше, Достоевского и Кьеркегора, Хайдеггера и Камю… Конец света, столкновение с планетой – лишь астрономическая аллегория конца, наиболее понятная современному человеку, давно находящемуся в параноидальном страхе «конца света». Этот человек озабочен лишь собственным душевным и материальным благополучием, даже угрозу утраты которого он воспринимает как абсолютное зло. И в тоже время патологическая страсть подталкивает его к поиску конца как выхода из опостылевшей и приевшейся реальности, в которой «суета сует» наглухо прожгла все живое и разумное. Но, столкнувшись с бездной, человек убегает обратно в привычный кокон своего комфортного существования. И поэтому большинство фильмов-катастроф – со «счастливым концом», поскольку была лишь угроза существованию, которая, благодаря отважным действиям героев-спасителей, не осуществилась. И мир остался таким же миром – не тронутым ни единым желанием что-то действительно осмыслить и изменить.
В «Меланхолии» все иначе; доведенный до логического завершения сюжет, заканчивающийся космической катастрофой, нарушает определенный социальный канон политкорректности, сталкивая современного человека с очень нелицеприятными вещами. Нелицеприятными, поскольку размышлять над ними уже как-то и не принято сегодня. Приближающаяся катастрофа, грозящая уничтожить все человечество, оборачивается личной драмой героев и зрителей. «Как же так, все погибло!» – может воскликнуть неискушенный зритель. «Но оно и должно погибнуть!» – воскликнет более искушенный, обрадовавшись эстетическому великолепию катастрофы, чье мастерское изображение не имеет себе равных в мировом кинематографе.
Приближающаяся планета в фильме – это приближающаяся «смерть Бога», то есть духовная и экзистенциальная катастрофа человека. Эту катастрофу главная героиня переживает в первой части еще до всякой астрономической угрозы. Как глубокая натура она понимает бессмысленность, лицемерие и неподлинность жизни, особенно светской, гламурной жизни. Можно, конечно, объяснить ее поведение психическим расстройством и депрессией, найдя рациональные толкования тому асоциальному поступку, который выразился в полном неприятии свадьбы как кульминации социального действия.
Но здесь кроется нечто большее – этическое неприятие жизни как жизни, неприятие гораздо более масштабное, нежели недовольство отдельными жизненными эпизодами. Сама жизнь взята под вопрос и под подозрение, ей грозит смертный приговор, и тягость этой угрозы нависает над действием первой части фильма, отравляя всю прелесть жизни, еще не ведающей о том, что смертная казнь близка и неотвратима. Во второй части отрицается уже не только светский мир, мир гламурной условности – как неподлинный, не имеющий никакой цены и ценности, – но сама жизнь, (в которой природа и дети!) как не достойная ни оправдания, ни сожаления.
Фильм Триера в этом смысле является как бы некой художественной иллюстрацией к известным словам Теодора Адорно: «Освенцим доказал, что культура потерпела крах. … После Освенцима любая культура всего лишь мусор. … После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование».
«Меланхолия» в этом смысле – очень серьезный размах. Он возможно и не пропорционален тому злу, которое совершило человечество, заслуживающее, несомненно, всегда какого-то наказания. «Конец света» в представленном Триером варианте означал бы не просто прекращение исторического существования человека на земле, это значило бы откат в полное небытие, в полное ничтожество, ничто, в полное отрицание самой возможности бытия. Конечно, мир абсурден и зол во многом, но не до такой же степени!
С этой катастрофой происходит не только уничтожение зла, коим носителем является человечество, но и отмена вообще бытия как такового. Это был бы слишком чудовищный исход, вероятность которого, к тому же, не имеет никаких реальных основ. Ведь «конец света» не проистекает ни из каких оснований мира – ни духовных, ни естественнонаучных, ни даже экологических. Всегда есть только угроза конца, но никогда не сам конец. Конец света ведь никогда не наступал, почему он должен наступить когда-то?
Откуда возникает воля к гибели мироздания, которую с такой потрясающей глубиной и достоверностью показывает режиссер? Что это за темные глубины, в которых таится эта страсть к самоуничтожению?
В «Меланхолии» воля режиссера как бы сливается с волей современного «молчаливого большинства», которое боится «конца света» как самого страшного исхода, но в тоже время прибегает к жесткому и антигуманному решению и выносит свой вердикт существованию. Так или иначе, но он вершит суд над всем человечеством. У всякого художника есть основания для своего приятия или неприятия мира. Зритель может согласиться с этим или не согласиться, но он не может остаться равнодушным, и это главное.
И вот именно в этом особое мастерство Ларса фон Триера как режиссера, который смог добиться того, что эсхатологический ужас входит в душу и становится личной катастрофой зрителя. Зритель невольно попадает в ситуацию этической провокации, которая не может остаться безответной. Зритель здесь как бы призывается на страшный суд, он должен сказать свое собственное слово, вынести собственный приговор жизни и миру, а не только испугаться, пережить страх и ужас и остаться таким же, каким и был раньше, что свойственно для стандартного фильма-катастрофы. Здесь он уже не может просто сказать: «мне все равно, мне не понравилось», или «я не согласен». Он должен лично дать ответ. Режиссер дал свой ответ, это ответ-вызов. Ответ за зрителем, за самим человеком. Сможет ли он дать достойный ответ?
***
Эсхатологизация культуры – верный признак ее выражения. Сама культура, как мир, не погибнет никогда. Но мир подвержен вырождению и деградации. Если нельзя исправить ситуацию в глобальном смысле, то в своем личном решении можно все-таки проявить духовную волю и остановить процесс распада, остановить приближение неизбежной гибели, хотя бы не поверив в нее как в свою окончательную судьбу. Возможно, в этом и заключен главный, подлинно гуманистический смысл одного из самых неоднозначных, но потрясающих всякого фильмов нашего времени.
Владимир Варава
Иллюстрация Михаил Супруненко, Марина Демченко
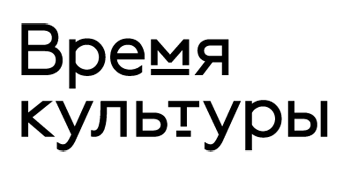



1 комментарий
По-моему «Нимфоманка» как раз сейчас актуальнее)