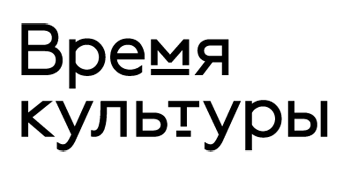Среди молодых воронежских художников Ивана Горшкова можно обоснованно считать наиболее обласканным вниманием московской и европейской публики. Его искусство неизменно радует всех: левых берлинских интеллектуалов, важных московских галеристов, эксцентричных венских матрон, провинциальных задорных юношей и девушек. Тщательно пестуемый художником путь в искусстве, собственный образ в нем – одновременно брутальный и роскошный, хтонический и легкомысленный – неизбежно вел к «Золотому павильону». Персональная выставка Ивана с таким названием открылась в воронежской галерее Х.Л.А.М. и посвящена воронежскому арт-сообществу.
Выставка впервые интегрировала две ключевые характеристики художника: собственно его эстетическую стратегию и персональное отношение к миру искусства и своему месту в нем.
Сначала о втором. Иван Горшков сознательно реализует в себе два видения художника: беззаботного богемного весельчака и трудяги-ремесленника. Две эти ипостаси гармонично складываются в уютный образ жизни: хорошо потрудился – хорошо повеселись. И действительно, произведения Горшкова, требующие для своего создания значительной физической работы в напоминающей кузню деревенской мастерской, с толикой вознаграждаются коммерческим и карьерным успехом. Такой самозабвенный и по-крестьянски естественный способ бытования в мире искусства отсылает нас к мифическим золотым временам, когда художники-гении, подобно вулканам, исторгали пласты самодостаточных произведений, не требующих комментариев.
А искусство Горшкова действительно стремится обитать вне дискурсивного поля, осваивая области дремучих образов и субстанций. Художник неоднократно озвучивал свою задачу: создание произведений, колеблющихся на грани материального хаоса и антропоморфной оформленности, создание искусства – одновременно величественного и максимально ничтожного.
Поиски этого пограничного княжества привели автора к «плохой эстетике» – простым и грубым материалам (железо, дерево, бетон, глина), по-хулигански раскрашенным краской-спреем и эмалью, со следами сварки, кувалды, природных стихий и прочих деструктивных начал. При этом работы Ивана неизменно тяготеют к монументальным жанрам: парадная статуя, бюст, барельеф. Каждая из них, по сути, персонаж – принцесса, рыцарь или жалкий гном.
В «Золотом павильоне» эта персонажная линия реализована еще сильнее. Ядро выставки – три объекта из железа. Самый большой – скульптура «Медаль за величие». Средний – бюст «Слеза врага». Маленький – железный карлик без названия. Все три гораздо более походят на людей, чем прежние работы – имеют вполне оформленные туловища, конечности. Ну а бюст и вовсе человекоподобен. Крупные объекты дополнены мелкими – серией бетонных скульптурок «Семейный портрет», разнящихся от белых квазифигурок до окрашенных в синее кашеобразных лепешек. Плоские жанры тоже представлены всеми возможными размерами – от гигантского полотна «Золотой лимузин» до графического листа «Портрет друга». В промежутке – картины «Нимфа» и «Площадь Черняховского». Я намеренно так тщательно перечисляю названия работ: они очень хорошо дают представление о пафосе (в античном смысле) выставки.
БОльшая, по сравнению с предыдущими, антропоморфность скульптур однозначно увеличивает их силу. Работы Горшкова всегда были в первую очередь телами – вещественными, прикованными к земле, искореженными телами. Способ существования тел ясно и кратко можно описать двумя определениями Нанси: «Тело всегда катастрофично», «Лишь тело может видеть тело».
Под «видеть» здесь, конечно, не имеется в виду оптическое зрение или тот «взгляд», что определяет существование субъектов относительно друг друга. Речь идет о физическом узнавании своего родства с чем-то, интуитивном улавливании причастности к общности схожих субстанций. Если признать за телами их собственный уровень бытия – будь то в духе автономии Декарта или «животной души» Аристотеля, ситуация узнавания тела телом вне механизмов языка, понятий становится вполне очевидной.
Именно этот эффект узнавания таится в работах Горшкова. В них всегда проявлялись как очевидные признаки тел (органы, конечности, позы, интенциональность), так и неочевидные (разломы, страдания, пустота, химеричность). Самое главное – эти железные скульптуры присутствуют в пространстве, занимают свое место, имеют протяженность, вес. И соразмерны человеческому. Эффект узнавания телесного в прежних работах Ивана носил скорее комичный, милый характер: примерно так человек вычленяет что-то общее у себя и своей собаки. Когда же на нас из железа глядит человеческая плоть, дистанция исчезает и наше тело смотрит прямо в себя. Причем, по Нанси опять же, самое реалистичное тело – избитое. Существование тела наиболее ярко проступает в коллизиях его деформации, плавления, болезни, страданий. Это настоящее зрелище, одновременно ужасное и притягательное, от которого невозможно отвести глаз: непристойные тела скрывают от нас свои непристойные удовольствия. И здесь узнавание уже не комичное, а устрашающее и волнующее.
Мало что в мире познается напрямую, чаще всего нам нужен вынесенный вовне знак, двойник, другой. Именно этим страшным двойником для тела зрителя становятся скульптуры Горшкова, которые рассказывают неприятную истину о вещности и катастрофичности человеческого существа.
В этом отблеске оказавшихся родными нам железных чудовищ по-другому предстают и маленькие объекты из бетона. Похожие работы художника прежде выглядели, опять же, скорее милыми. Как фарфоровая фигурка слона на полке. Но тень старших братьев превращает их в изъятые части организмов, кисты, эмбрионы, раздавленные органы – все те отдельные фрагменты, что несут на себе тяготы целого, но не имеют его драматизма, оставленные исключительно в своей неприкаянной функциональной вещности.
«Золотой павильон» Горшкова посвящен не только проявлению телесных форм. Произведения погружены в антропологический контекст, принимают на себя театральные роли – победителей, поверженных, друзей и врагов. Голые тела прирастают коллективной жизнью – и ставят перед нами вопрос уже о природе субъектности. Что оживляет эти железные глыбы? Ответ художника – гомеровского масштаба страсти и противостояния. (Страшно и весело представлять себе, какова будет награда победителя.)
Это противоречие материи и статуса сильнее всего проступает в бюсте «Слеза врага». Гротескная голова, как будто изувеченная в битве, настолько персонифицирована, что напоминает то ли театральную декорацию, то ли дружеский шарж из позднесоветской экзистенциальной традиции изобразительного искусства. Это явление из прошлого настолько внезапно, что надолго приковывает взгляд. И если самая крупная скульптура наиболее понятна и производит наибольший эффект, то бюст крайне противоречив, он подвергает серьезному испытанию хороший вкус современного искусства – а это очень сложная игра, в которой легко промахнуться.
Художнику удается пройти по этой грани, не соскользнув ни в интеллектуальную шутку, ни в банальный китч. Можно утверждать, что в этой работе Иван все свои технические и эстетические находки применил для решения задачи более высокого уровня – создать произведение, которое выпадет из устоявшихся конвенций современного искусства и оставит нам негаснущее чувство тревоги. Стоит надеяться, что художник не оставит эту находку без внимания и создаст для «Слезы врага» достойных потомков.
Отдельно нужно упомянуть и о том, что Горшков обозначил в качестве темы выставки: самоописание воронежской группы современных художников, их клана, союзников и общей истории. Это попытка не первая, проект с похожей целью был реализован все тем же кланом в рамках 2-й Московской биеннале молодого искусства.
Можно говорить о некоторой уже традиции самопрезентации воронежской группы современных художников – в духе создания эпоса, волшебной сказки о героях, принцессах и непобежденных чудовищах. И Иван Горшков, богатырь-кузнец, несомненно, является ключевым персонажем этой истории.
Илья Долгов