Воронежский театр драмы им. Кольцова ждет своего пробуждения уже давно, окончательный результат уже не за горами, горожанам не терпится увидеть – каким же стал театр внутри, насколько он преобразился? Но для нас процесс восстановления старого театра оказался интересен не меньше, чем результат для воронежцев. Тем более, если учесть, что работа над интерьером театра была поручена одному из самых востребованных европейских художников нашей эпохи. Юрию Куперу – человеку масштабному и харизматичному. Его работы – графические, живописные, скульптурные, театральные, кинематографические давно уже стали символом качества. Ценители и коллекционеры встречаются с произведениями мастера на вернисажах в самых различных музеях нашей планеты. Это и Государственная Третьяковская галерея в Москве, и музей Метрополитен в Нью-Йорке, и галерея Клод-Бернар в Париже, и галерея Яна Кружье в Женеве. Окончание этого списка мы увидим не скоро. А сегодня Юрий Купер – в гостях у редакции «Время Культуры».

– Юрий Леонидович, давайте начнем разговор со злободневных ситуаций. Вот, например, некоторые воронежские деятели культуры довольно прохладно отреагировали на предложенный вами проект интерьера театра драмы. Что именно в нем их не удовлетворило?
– Меня пригласил в проект художественный руководитель театра Владимир Сергеевич Петров, к которому я отношусь с большим уважением. И он от меня ждал именно чего-то такого, что я и постарался сделать. Но некоторым деятелям культуры не то, что бы сам проект не понравился… Просто мне кажется, что они ревниво относятся к личности Владимира Петрова. Другие люди оказались не согласны с моей работой в силу своего вкуса, хотя я в это не очень верю. Скорее всего, все это связано с какими-то личными соображениями.
– Ну, вот несколько моих друзей тоже видели эскизы вашего проекта. Может быть, их вкусы не в меру консервативны, но некоторым показалось, что такой интерьер довольно-таки прохладен. Они считают, что театр должен греть.
– Что это вообще значит – прохладный интерьер?? Тепло создают сами обитатели квартиры, дома. Там появляются на стенах предметы, с которыми они живут, фотографии, вещи, которые они приобретали. Это все и делает интерьер теплым. К сожалению, людей, которые торопятся высказать свое мнение по тому или иному вопросу, слишком много – хотя у них этого самого мнения по конкретному вопросу быть не должно. Это ошибка – считать, что право на свое мнение имеет каждый человек. Ибо его можно иметь, только зная сам предмет. Например, я могу сказать, что мне не нравится аппарат вашего фотокорреспондента только в том случае, если я буду прекрасно разбираться в фотоделе и знать все технические характеристики существующей фотоаппаратуры. Но на деле получается так, что чем проще народ, тем легче он разбрасывается своим мнением. Что же касается театра драмы, каким он должен быть – то в идеале, конечно, я бы хотел, чтобы до последнего момента об этом знали только художественный руководитель театра и я. Поверьте, такое желание понятно любому художнику. Но, конечно, это невозможно, мы должны считаться в силу определенной этики и политики с заказчиком, тем более, если он заслуживает всяческого уважения – а я очень уважаю воронежского губернатора и его супругу. Но у посторонних людей, как мне кажется, не должно быть права на субъективную экспертизу.
Например, вот режиссер воронежского Камерного театра (к сожалению, не запомнил его фамилию) тоже сказал: «Я бы хотел, чтобы театр был теплым, чтобы наши женщины зимой, приезжая на маршрутке, могли бы снять шубы или пальто и погреться у печки». Я очень надеюсь, что это была все-таки просто метафора или гипербола, и мне не придется его интервьюировать, чтобы понять, что конкретно имелось в виду.
– Понятно. Перейдем к другой теме. Вы не так часто бываете в Воронеже, но, полагаю, беглым взглядом уже оценили архитектуру нашего города. Какие здания привлекли ваше внимание? Шедевры есть?
– Шедевр есть, но это старое здание – бывшая гостиница «Бристоль». Это то, что я называю высшим пилотажем. Еще очень понравилось синагога, тоже потрясающая архитектура, это видно, несмотря на полуразрушенное состояние здания. Обратил внимание на то, что большинство домов в Воронеже безвкусно раскрашены в два-три цвета – и от этого весь город похож на мещанские усадьбы. Впрочем, я недостаточно хорошо знаю воронежские окраины, чтобы впечатления от города были наиболее полными.
– Но поскольку вы хорошо знаете центр города, то не могу не спросить о вашем отношении к воронежским памятникам.
– О. они отвратительные! Есть в них какая-то такая назойливая пошловатость. Но не переживайте, потому что если бы вы меня спросили про московские памятники, я бы тоже ничего хорошего не сказал.
– Получается, это не какая-то провинциальная стилевая особенность, а общая тенденция?
– Совершенно верно. Дело не в том, что это – Воронеж или Москва. Это общая тенденция сегодняшнего дня. Некоторая шлягерность во всем: эстраде, кино, архитектуре. А в обличии памятников – особенно. Ведь в чем заключается бездарность того или иного художника? В том, что он чрезмерно настойчиво настаивает на своем «я». Ну, делаешь ты памятник Бродскому, так сделай Бродского! Но нет, они предлагают какое-то «свое» решение, какое-то свое «особое» видение. Та же ситуация и в театре. Ставишь Чехова, так сделай Чехова! Но – либо не хотят, либо не могут. Скорее всего, не могут, поэтому и пытаются выпендриваться. К сожалению, и будут продолжать это делать, потому что есть спрос. Эпатаж на сегодняшний день – это самая главная фишка, которую основная масса людей потребляет с удовольствием. Поэтому художественные выставки уже перестали быть картинными выставками, а превратились в места проведения каких-то инсталляций. А почему? Да потому что при инсталляции их создателям конкретных вопросов задать невозможно, они обязательно сошлются на свои вроде как очень заумные, но очень расплывчатые идеи. Но зрители в очереди стоят. Ведь им не надо платить большие деньги за картину и вешать ее у себя на стену, зато есть возможность за трешку поглазеть на то, чем художник измазал стену, кто на что пописал – короче говоря, приобщиться к современному искусству.
– Вы, я вижу, не любите искусство для масс…
– Меня вообще не интересует массовость. Мое любопытство вызывают исключительно одиночки.
– Отсюда можно предположить, что вы не религиозный.
– Верно.

– Но одиночки типа Христа и Мухаммеда, безусловно, ваше внимание привлекают?
– Да, конечно. И Иуда привлекает, и даже Гитлер со Сталиным. Мне интересны личности, независимо от того – положительными персонажами они были или отрицательными. А возвращаясь к вашему вопросу о моей религиозности, отвечу, что очень уважаю чувства всех верующих, но моя религия, моя вера заключена в моем труде, в моих картинах..
– Тогда с вашего одобрения я поинтересуюсь некоторыми перипетиями жизненного пути художника-одиночки – то есть вас. В документальном фильме Светланы Проскуриной вы сказали о том, что перестали ходить на собственные вернисажи. Причиной этому послужили глупые вопросы и комментарии публики. А потом вы добавили, что умному человеку нужно молча знакомиться с работами, этого будет для вас достаточно. Каким же должен быть идеальный диалог между художником и зрителем?
– Если мы говорим об идеальном диалоге, то его надо вести только с близкими тебе людьми-художниками, т.е. профессионалами, которых ты выбираешь в зрители. Потому что в этом случае беседа ведется в определенном контексте, с опорой на опыт. Простые разговоры с абстрактной публикой – это то, что называется вежливостью, это обмен фразами, которые ничего не значат. Мнения в таких случаях ограничены категориями «нравится» или «не нравится». Обычно, так люди обсуждают фильмы и картины дома за ужином. Во Франции, например, есть общеупотребительное клише, когда к художнику на выставке подходят зрители и заученно говорят: «Merci beaucoup, c`est très fort», что переводится как «очень сильно». Но это все неинтересно потому, что у них нет той культуры, при которой возможен серьезный диалог. Люди спрашивают: «Какие художники вам нравятся?» А я им: «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» Тогда они недоумевают и пристают: «Что вам, жалко сказать, кто вам нравится?» Я отвечаю: «Я вас поставлю в неловкое положение. Я вам скажу, а вы даже не будете знать, кто это». Поэтому диалог с публикой может ограничиваться только вежливыми «спасибо», «мне очень приятно», но… там нет никакого диалога.
– Вы живете попеременно в нескольких городах: в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Москве. В какой стране вам комфортнее всего находиться?
– Хороший вопрос. Там, где у меня есть интересная работа. Например, одно время это была Франция, когда каждую субботу и воскресенье толпы народу ходили по галереям, на выставки, когда все кипело и кричало. Париж был городом развлечений как культурных, так и ночных. Но сейчас он – словно пустыня Гоби. Вот я недавно вернулся оттуда. Люди уже давно не ходят по галереям. Все находится в такой депрессии. Париж 80-х и сегодняшний Париж – это два разных города. Так же, как Москва, из которой я выезжал в 70-е годы. Сейчас я с удовольствием бываю в Москве. Она для меня уже как заграница. И Воронеж для меня заграница. А вы, живущие здесь, может быть, по-другому воспринимаете свой город. Мне он нравится. Я хожу по улицам и вижу массы молодежи, которую не встретишь в Париже.
Идеальным местом всегда становится то, в котором я могу работать. Я был в шикарном городе Кейптауне, например, в Южной Африке. Большей красоты я не видел, где такое сливание города с природой. Там три океана, и два из них сливаются вместе. Но что мне там делать без работы?
– Вы себя без работы не мыслите вообще?
– Нет.
– Ведь существует же определенное количество людей, которые ждут своего выхода на пенсию, чтобы поковыряться в саду. Насколько понимаю, вам это совершенно чуждо?
– Абсолютно. Мне когда-то приходилось отдыхать с моей бывшей женой и дочерью. Так вот, они ходили на пляж, а мне было даже страшно представить, как это сделаю я. Я не могу просто лежать на пляже и загорать. Мне нужны активные места, просто какой-нибудь экшн! В Марокко, например, есть потрясающие базары, а в Италии – рестораны и музеи. А можно отдохнуть две недели или месяц во Флоренции, полюбоваться храмами и фресками. Я считаю, что надо отдыхать в местах цивилизованных, а не просто валяться на песке, намазавшись кремом.
– Вашей натуре свойственна любвеобильность?
– Это вы о чем?!
– Это я о женщинах, естественно.
– Ааа, в молодости, конечно, хотелось поразить, удивить, произвести впечатление. Но с возрастом уже не хочется создавать обманчивое героическое впечатление. Совершенно нет никакого желания проводить специальную работу и рассказывать, какой ты крутой и перспективный.
– Вы полагаете, что личные отношения – это работа?
– Безусловно. И позже вы поймете, что эта работа изнуряет. Как можно долгое время жить с одной женщиной и сохранять облик героического персонажа, когда она тебя просит сходить в магазин за макаронами? Постепенно ты становишься мебелью. Ну, за исключением, конечно, героических личностей, которые уходили на войну, и которых жены не видели по несколько лет.
– Так вы нашли свой комфортный способ существования или нет?
– Я же вам говорю, что если б я знал, чего хочу в идеале, то, наверное, попытался бы это осуществить. Наша общая человеческая проблема – мы не знаем, чего хотим по большому счету. Вернее, можем знать, но на очень короткий промежуток времени. Что-нибудь примитивное – например, хочется нам выпить воды или кофе. Но если я вас сейчас спрошу: «Что вы хотите на данный момент по-настоящему?», и вы тут же начнете отвечать, я вам все равно не поверю.
Если почитать большое количество интервью живописцами или скульпторами, появляющихся в газетах и журналах, то можно убедиться, что финал их обычно до тошнотворности предсказуем. Журналист на закуску оставляет вопрос про лучшее произведение, созданное на протяжении жизни, а художник с привычным воодушевлением отвечает: «Лучшая картина у меня еще впереди!». Почему вы смеетесь? Так обычно и происходит, я не вру.

Я отвечу иначе, причем искренне. Свою лучшую картину я уже написал.
– Но, разумеется, не помните когда?
– Нет, я помню. Это красивая история.
– Охотно послушаю.
– Дело в том, что у каждого художника существует период в молодости, который зовется становлением. Я, будучи студентом, ездил с приятелями на Белое море на летние этюды и слонялся по деревне Золотица. В этой рыбацкой деревне рыбаки ловили семгу, чтобы потом продать ее в сельсовет или в колхоз. Мой сокурсник Самарин пил водку и писал портреты с простых рыбаков, которые сидели за грубо сколоченным столом. На столе был натюрморт: хлеб, картошка, рыба, пара бутылок водки. А из-под стола можно было увидеть кряжистые, кривые, босые, упертые в пол ноги. А другой сокурсник Марышев писал деревню. Он поднимался каждое утро в горы и с высоты птичьего полета рисовал избы. Я все думал, чего бы мне придумать такого, чего они не делают, и чтоб меня тронуло. И я по этой деревне шлялся. Однажды мне понравился белый берег песчаного моря. Там валялись бревна, изъеденные солью и солнцем. Мне показалось, что как мотив это интересно.
– Но мотиву не хватало динамики?
– Да, поэтому я продолжал ходить-ходить… И, однажды, под вечер набрел на церковь. Оттуда доносилась музыка. Я еще подумал, почему в церкви играет аккордеон? Я зашел туда, и меня поразила картина, которую увидел. Эта церковь была превращена в деревенский клуб. В центре сидел на стуле или табуретке мужик в кепке, играл на аккордеоне. Лампочка висела на шнуре и горела тускло. А еще пары, которые двигались вокруг этого мужика. В основном это были мужские пары, солдаты, потому что в этой деревне было три подразделения: связисты, стройбатовцы и пограничники. Они друг с другом танцевали, у каждого была сигарета во рту. Всего были всего две бабы, пекарихи. И они тоже танцевали друг с дружкой. У одной из-под юбки торчал кусочек комбинации. Я не мог понять, почему эта картина меня так заворожила. Но потом, уже, будучи взрослым, я понял, что это напомнило мне мою коммунальную квартиру – по свету, по запыленности, по всему прочему. Короче, с этого дня я стал каждый вечер туда приходить и делать наброски. А потом возвращался вечером в избу и на картонке 50*70 писал эту сцену. И на просмотре осенью мой преподаватель Нафталий Давыдович Герман, который был поляком и разговаривал по-русски с сильным еврейским акцентом, позвал меня в сторону и сказал почти на ухо…
– «Юрочка, вам не стоит заниматься живописью»?
– Он сказал: «Юрий, вы никогда не должны расставаться с этой работой. Это ваша первая работа Художника». Мне, конечно, хотелось в это верить. Картина мне действительно нравилась и была такой честной и необыкновенно наивной. Я водил дружбу с Валей Ежовым, который написал сценарий к «Балладе о солдате» и «Белому солнцу пустыни». У меня в мастерской частенько были пьянки, гулянки. А Валя таким страшным алкашом был! Но перед тем, как пойти на кухню, где происходили все эти пьянки, он всегда минуты две сидел и смотрел на эту картину. Я все время хотел его как-нибудь спросить, почему он на нее смотрит-то, это было удивительно. Во время эмиграции я не смог забрать с собой все свои работы, сказал себе: «Я ему подарю эту картину. Но только с условием, что он мне расскажет, почему все время смотрел на нее». И, слушайте, проходит лет пятнадцать. Валя приезжает в Париж, и я его, наконец, спросил: «Валь, почему ты всегда сидел перед этой работой и молча смотрел на нее?» И он, даже секунды не думая, вдруг так агрессивно произнес: «Скажи, ты когда-нибудь был в армии?» Я говорю: «Нет». А он: «А я всегда был в армии. Я с 16 лет пошел на фронт, потом вернулся и всю жизнь пишу сценарии про войну, поэтому для меня армия – это моя жизнь. Но нигде, ни в одном фильме, ни в одном сценарии я не видел, чтобы так точно была отображена армейская сущность, вот эта жуть и тоска». Он смотрел на эти танцующие пары одиноких солдат и узнавал все это. Я до сих пор считаю, что это одна из моих лучших картин. В том смысле, что она была сделана еще не испорченным призванием и умением художником. Потому что я ничего не умел тогда, но там было все.
– Стало быть, как нам следует закончить интервью? Моя лучшая картина – в прошлом?
– Ну, по крайней мере, этот ответ не будет выглядеть претенциозным.
Ксения Гезенцвей
Фото Алексей Астрединов
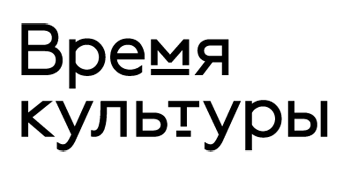



2 комментария
Упомянутый Нафталий Давидович Герман считал Юру талантливым учеником и обладал тонким чутьем на хорошую живопись. Кроме того был талантливым учителем, «не стриг всех под одну гребенку». Катя Компанеец, 2015 год.
Pingback: Сайт Юрия Купера | Художник Юрий Купер выпустил книгу «Сфумато»