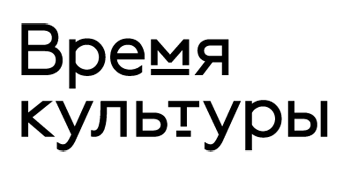Освещение
 Галина Умывакина. Воронежские сюжеты. –
Галина Умывакина. Воронежские сюжеты. –
Белгород: Белгородская обл. тип., 2014. – 160 с.
Воронеж Галины Умывакиной существовал и до выхода этого сборника. Самое известное – «За снегом еле виден / и временем сокрыт – / поэт Иван Никитин, / задумавшись сидит…» – стало уже городским фольклором.
В новом сборнике рассыпанные по прежним книжкам местные реалии собраны, усилены публицистическими эссе последних лет, дополнены новыми стихами. В результате воронежская топонимика – все эти улочки-ямы, серые дома, задумчивые памятники, исчезнувшая в новостройках слобода – перестала быть декорацией. Здесь она – полноправная драматическая героиня.
Перемещение акцента с автора на город не только сделало последний одушевленным, но и придало Воронежу какое-то почти мистическое соучастие в глубоко личных делах автора, ее интимных переживаниях.
«За межою пограничною, / за рубежною верстой – / ничего не видно личного, / сколь, уставившись, ни стой. / И за далью той кромешною / (день прошел – и был таков) / ничего не видно грешного, / кроме горсточки стихов».
Чувство слитности поэта с ее городом возникает оттого, что Воронеж показан Галиной Умывакиной прежде всего местом душевного проживания. Город стал соавтором: сопереживая, соучаствуя поэту, он тем самым как бы «организует» ее стих, «размещает» в нем эмоцию. Автор тоже не остается в долгу перед городом, конструируя поэтическую архитектуру мегаполиса:
«Посреди большого света / никуда дороги нет… / Но тогда скажи, что это – / как не мужества завет?! / И покуда будет петься / у воронежской земли, / я люблю её: по сердцу / её контур провели».
Когда-то Антонио Гауди называл архитектуру искусством распределения света. Свет сам по себе не играет решающей роли в городском пейзаже. Но он выступает как прелюдия к памятному для художника сюжету, как внешняя рамка для создания выхваченного из потока горожан образа какого-то одного, дорогого для автора жителя.
Приём необычный. Как правило, душевные переживания поэты связывают с природным миром. А вот у Галины Умывакиной они проступают сквозь силуэты домов и линии тротуаров, наполняя городское пространство голосами близких ей людей.
«Этот город мной прочитан, / словно книга, много раз – / по совету, без причины, / по наитью, про запас. / И куда пойду я: прямо / или вспять – всё попаду / то на улицу, что «яма», / то в Ямскую слободу»…
«Воронежские сюжеты» Галины Умывакиной – это та самая архитектура по Гауди. Ваяние светом.
Ну, и тьмой, конечно, тоже.
Значит, будет еще что вспоминать…
 Борис Подгайный.
Борис Подгайный.
Двенадцать историй.
– Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография», 2014. – 240 с.
В рассказах Бориса Подгайного, как правило, жизнь течет сама по себе, ничем и никем не управляемая. Даже не жизнь, а поток явлений и фактов. Этот поток и есть мир героя (а все персонажи Бориса Подгайного на самом деле один и тот же герой), который фиксирует реальность с наивной непосредственностью ребенка, впервые вышедшего на улицу города. То есть какой-то жизненный опыт у него, безусловно, есть, но любые бытовые действия, которые обычно человек делает мимоходом, здесь обретают значение едва ли не космической проблемы.
Кажется, что этот герой постоянно пребывает в состоянии «предсонья», что у него никогда не проходит похмелье – настолько он подавлен однообразием и монотонностью окружающей его городской жизни.
«На площадку за ларьком так никто и не зашел… Нет людей; продавщица в ларьке не в счет, она лишь иллюзия… Как и ларек, как никудышное пиво, как труха под ногами и небо над головой… Игорь Андреевич посмотрел на небо. Небо ответило тем же» («Пиво за ларьком»).
Растворение в окружающем пространстве порой производит мрачное впечатление: трудно поверить, что хоть что-нибудь способно потрясти его, что в его душе могут бушевать страсти, что он может, не дай бог, влюбиться. Страстно влюбленный герой Подгайного – нонсенс (в отличие, кстати, от самого автора, поместившего в конце книги, для контраста, несколько стихов, среди которых и легкий эротический ноктюрн «Меня из прошлого украв…»). В рассказах же писателя возвышенное чувство – недоступная абстракция. Здесь царствует какой-то общий непрекращающийся семейный раздрай, который проходит через почти все «Двенадцать историй»:
«– Что – «ладно, хватит»? Вера, голуба, а за что ж тебя в предпенсионном возрасте из школы турнули? Ведь ты – учительница, пусть физики, но – учительница! Вот за дерьмоедство и турнули!.. Мариш, доча, тебе двадцать восемь, а ты – как корова сонная! Пришла, развалилась – погрязла! Тебе внуков рожать пора, а не жевать – эх!.. Обрыдло! Обрыдло мне, понимаете?!..
– Папа! – заорала Мариша вдруг громче всех. – Ты, ты – скотина!
– Так, – сказал Валька, помолчав. – Я – падальщик. Я свою падаль забираю, вот эту.
Валька поднял том Салтыкова-Щедрина, демонстративно обтер рукой…
– Остальное завтра заберу. Или на днях»… и т.д. («Поднятая старина»).
Но при всей напускной грозности персонаж Бориса Подгайного абсолютно мягок, податлив и как-то подчеркнуто горизонтален в выстроенной вертикали жизни – никакие метания и терзания не изменяют его ровного, полусонного существования.
Он бесстрастен, он – тот самый «последний человек» Ницше, пребывающий в пустоте абсурда. И вот именно через эту пустоту для него однажды вдруг открывается нечто потустороннее, истинное, сокровенное. Вот почему проза Подгайного не только реалистична, но и по-своему мистична.
«Всадник протрубил. Мы не слышали звука. Мы смотрели в небо.
И увидели, как вслед за беззвучным зовом по огромному небу пробежали бурые воспаленные прожилки. Всадник трубил. Прожилки росли, ширились, разламывались, превращаясь в рваные кровавые раны; небо набухало, провисая, наваливаясь на нас, готовое лопнуть, разлететься, рассыпаться вдребезги, – неужели, неужели и… за что? Почему – мы? Почему? И нет спасения? Нам, мне…» («ШУДРА ДУ»).
Спасения, конечно, нет. Но если хотя бы в одной из историй автор останавливает своего героя, чтобы тот смог подобрать выброшенные на мусорку томики литературы, значит, в этом мире еще будут жить книги, которые когда-нибудь кто-то непременно захочет прочесть.
Там, где обитают призраки
 Павел Попов.
Павел Попов.
Здравствуй, старый дом! Самые замечательные здания Воронежа. Книга 1.
– Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. – 312 с.
Павла Попова традиционно считают одним из лучших воронежских краеведов. Так оно и есть, только вот столь однозначное отношение к его сочинениям затрудняет возможность увидеть еще одну, не менее интересную, чем исследовательская, особенность его творчества.
Дело в том, что Павел Попов (и я убежден в этом!) – вполне сложившийся самобытный писатель-мистик, увлеченно рассказывающий о предметах, наполненных духом мертвецов. Истории о старых воронежских домах, хранящих призраки сразу несколько поколений их прежних хозяев, под пером Павла столь естественно и стремительно вплетаются в реальность, что невольно ставят под сомнение существование и самой этой реальности, и нас, сегодняшних читателей его книги. «Дом сбереженный остается неиссякаемым источником исторической романтики», – эта фраза автора точно определяет жанр, в котором написано большинство текстов Павла Попова. Это, конечно же, историческая романтика. В чем ее прелесть?
Дело в том, что если природа не терпит пустоты, то человек – хаоса. Наше сознание устроено таким образом, что мы воспринимаем реалии мира только тогда, когда они укладывается в какую-нибудь историю. Существование персонажей, населяющих этот мир в прошлом, наше сознание не воспринимает до тех пор, пока в истории не появится какой-либо романтический образ. Именно его функцию у Павла Попова и выполняют старые воронежские дома, которые, благодаря автору, обретают очертания едва ли не средневековых таинственных замков. Мастерски вписанные автором в исторический контекст города, они на глазах читателя сокращают разрыв, отделяющий реальность от вымысла.
И тогда на место старой Вселенной, состоящей из частично разгаданных историком Поповым загадок, приходит еще более старый мир, круто замешанный Поповым-прозаиком на неведомом. Следить за медленным отступлением тайны в текстах Павла – занятие увлекательное и волнующее. На наших глазах автор демонстрирует, как одна реальность перетекает в другую. И наоборот.
В конце концов, эти бесконечные переходы приводят к тому, что смысл провинциального бытия, запрятанный в эклектических объектах прошлого, становится предметом конкретного сегодняшнего опыта.
«Вы задумывались когда-нибудь, по какому принципу, какой волей судьбы старые дома избраны, чтобы остаться неразрушенными?.. Меня не покидает наблюдение: история обязательно дарует долгую жизнь сооружениям, которые связаны с благими делами горожан».
На таком вот эмпирическом материале автор, окунувшийся в мистику прошлого, и построил свою теорию жизни домов-призраков.