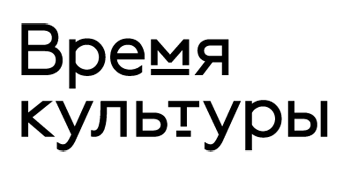К творчеству знаменитого земляка, как ни странно, на сцене воронежских театров обращаются ровно столько, сколько существует созданный в его честь фестиваль – всего три года. Столько же постановок: «Река Потудань» идет в Воронежском драматическом театре, в Камерном – «Дураки на периферии», а недавно театр Михаила Бычкова показал премьеру спектакля «14 красных избушек».

Если повесть «Река Потудань» давно в списке школьной литературы, ее даже брали за основу нескольких кинолент, то платоновские пьесы малоизвестны, при жизни автора их публикация оказалась под запретом. «Избушки» появились на сцене в Саратове во время горбачевской перестройки и семь лет назад – в Лондоне, а текст «Дураков» напечатали лишь в начале 2000-х и сразу же начали ставить. Площадка воронежского Камерного театра вместила в себе постановки сразу обоих произведений. Причем в порядке их написания: сначала «Дураки на периферии», а после двухлетнего перерыва для спектаклей по Тэффи и по Островскому – режиссер Бычков вновь возвращается к Платонову.
Закономерный вопрос: зачем? Вряд ли только ради ликбеза для воронежского зрителя, который привык переосмыслять и классические, и современные опусы разбросанных по миру авторов. Да, Платонов, он «ближе к телу», наблюдатель жизни не n-ной губернии, а воронежской. Он работает, как сам писал в одной из статей, с «полуфабрикатом». И совместные с Борисом Пильняком «Областные организационно-философские очерки «ЦЕ-ЧЕ-О» (так в народе прозвали тогда Центрально-черноземную область) породили «Дураков на периферии». Тип человека-«планктона», вольготно существующего среди кипы бумажек, мысль о массе, в которую сверху летят кирпичи уравнительных нововведений, но которая вовсе не масса, а скопление индивидуальностей, – реальные беседы Платонов переложил в текст пьесы. Разумеется, карикатурно. Пластичный, метафоричный язык, расковывающий фантазию. О чем же спектакль?
Вот в «Дураках на периферии» режиссер Михаил Бычков вместе с Платоновым смеется над глупистикой бюрократической мироорганизации, где в людях, как в аббревиатурах разных учреждений, нравственные принципы и здравый смысл предельно сжаты. Главное – юридически удостоверить, запротоколировать, прозаседать. «Делаем по закону – а получается тьма», – недоумевают члены комиссии ОХМАТМЛАДа, принявшие решение о рождении ребенка в семье Башмакова, а в итоге коллективно ставшие алиментоплательщиками – потому что Башмаков, оказывается, свою норму перед государством выполнил. Герои действуют на фоне огнедышащих декораций, стилизованных под работы Марка Ротко – американского художника, представителя абстрактного экспрессионизма, создающего яркими широкими линиями ощущение безысходности. Современная аллюзия на знакомое у Достоевского: Петербург, обрисованный желтушными, болезненными красками. Под стать – дикий рыжий цвет в длинной косе и в макияже белокожей Марии Ивановны, оттого будто окуклившейся. И все вокруг действуют механически, как заводные: Мария Ивановна то и дело твердит о желанном атаманстве среди разбойников под аккомпанемент мелодии из музыкальной шкатулки, а интеллигент Рудин – о тех самых индивидуумах в массе. Председатель ОХМАТМЛАДа – Евтюшкин, начиная каждый монолог, выходит на середину сцены и вяло шлепает себя по лбу – мол, какие все дураки, каждый раз нужно что-то объяснять. Дураки – они вроде как «на периферии, а здесь уездный центр!» Где и в лес ходить не надо – «разбойники» сидят и руководят заготовкой граждан впрок – вполне себе подходящим делом. И гордятся, что при этом жизнь для них никакого интереса не представляет.
В «14 красных избушках» – как раз та самая ведомая сверху жизнь, здесь простые крестьяне одноименного колхоза, к которым внезапно попадает Иоганн Хоз – 101-летний апологет капитализма, ученый, занимающийся вопросом экономических и прочих загадок.
Металлические стены колхоза – то ли ангар, то ли вентиляционная шахта, то ли трансформаторная будка. Внутри этой безжизненной полости – полубезумные несчастные люди. В трехлитровых банках скапливается песок, сыплется – то ли утекает время, то ли стряхивается прах с иллюзий о светлом настоящем. На сцену то и дело проецируются темные перекатывающиеся волны – дело происходит у Каспийского моря. Ощущение гнетущее, словно попадаешь в среду зомби – оно возникает, например, когда Хоз рассказывает сидящим у обеих стен крестьянам о своем знакомстве с Марксом. Прерывающиеся речи, стенания, крики – словно поджаривают кого-то на медленном огне в гигантской печи.
Но, так или иначе, врывается во всей красе глянцевитая современность, ударяет тебя в лоб: вместо знамен – красные воздушные шары на палочках, похожие на гигантские чупа-чупсы – так встречает Хоза комиссия. Сам он – щеголь-англосакс с искусственной бородой, его спутница Интергом – девушка с обложки модного журнала, с медовым голоском и в коротеньком платье. Молоко-виски да порошки-кокаин – стереотипное представление о западной цивилизации. Только получается, что высокие трудовые беззаветные идеалы колхозников и вкусная пестрая установка на удовольствие иностранцев – суть одно, картонный фасад, за которым песок и соленая вода. Две игрушки имперского масштаба, и обе работают, как оказывается, вхолостую. Когда с Хоза спадает маска молодости и довольства – он оказывается великовозрастным старцем, способным только на философские рассуждения. Но он сумел добиться цели своей поездки. Мировой загадки не то чтобы нет, ведь всегда будет иллюзия ее существования, пустоцвет, она будет жизненно необходима в любой, доступной для выражения форме. Нужна иллюзия полезности ОХМАТМЛАДа, нужности трудодней и классового врага. Чтобы «дураки» в избушках подчинялись дуракам в центре. «Мир состоит из бессмысленных пустяков».
Но еще есть вождь и Бог. Есть товарищ Сталин – для Суениты (в напечатанном тексте вместо него значится Ленин – работа тогдашней цензуры). Хотя огромное, возвышающееся над сценой тряпичное чучело-сторож, кажется, намекает, что некто недосягаемый никогда не защитит. У комиссии – Старший Рационализатор. Старший Брат, чей голос звучит то из репродуктора, то с небывалых высот. Он разорвет узлы непонимания, уничтожит сумятицу, организует массу, в которую превратилось местное общество мнимых индивидуальностей. И светлое будущее организует, которое пока мертво.
Потому что и в «Избушках» и в «Дураках» будущее вполне себе материально и символично – это ребенок. То сверток-кокон, которым перекидываются персонажи, желая, таким образом, уйти от ответственности его выращивания-построения. То плоская тряпичная красная кукла в банке, осталось заспиртовать – и экспонат для Кунсткамеры. В первой пьесе – ненужный. Здесь – обреченный. Мотив «материнства-детства», уставшей и отчаявшейся страны, и там, и там у Платонова заканчивается плачевно. Но режиссеру захотелось не приводить обе пьесы к единому знаменателю: смерть будущего по неосторожности и угадывающееся за ней повторение истории. Вымученная, стоит горстка обитателей колхоза посредине сцены, с трепетом смотрит вперед, где алеет долгожданный парус. Веру не избыть, как будто трагедий никогда и не было. Но металлические декорации закрываются, словно створки, и перед нами уже поезд из начала пьесы. Куда повезет своих измотанных пассажиров железнодорожный состав истории, по каким рельсам? И повезет ли вообще, если не успеет заржаветь?
Валерия Боброва
Иллюстрация Вероника Злобина